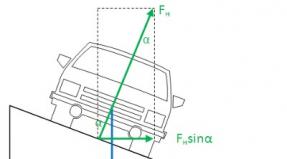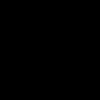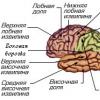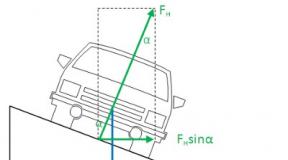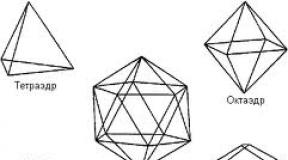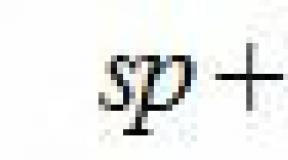Приказ на уничтожение. Юрий Дроздов: «Россия для США — не поверженный противник!» Светлой памяти истинного патриота и человека, который был резидентом советской разведки в Китае и США, спасал из нью-йоркской тюрьмы Рудольфа Абеля и готовил операцию по шту
Аллен Даллес говорил: «Об успешных операциях спецслужбы помалкивают, а их провалы говорят сами за себя». Однако нам все же известны несколько успешных операций КГБ СССР за рубежом, которые провальными не назовешь.
Операция "Вихрь"
Поздним вечером 3 ноября 1956 года на переговорах с советской стороной офицеры КГБ СССР арестовали нового министра обороны Венгрии Пала Малатера. Уже в 6 часов утра 4 ноября советское командование отправило в эфир кодовый сигнал «Гром». Он означал начало операции «Вихрь» по подавлению венгерского восстания.
Задача подавления мятежа возлагалась на Особый корпус. В общей сложности, в операции «Вихрь» участвовало более 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий, 7-я и 31-я воздушно-десантные дивизии, железнодорожная бригада (больше 60 тысяч человек).
Для захвата городских объектов были созданы спецотряды, их поддерживали 150 десантиников и БМД и по 10-12 таков. В каждом отряде были сотрудники КГБ СССР: генерал-майор Павел Зырянов, генерал-майор Кузьма Гребенник (будет назначен военным комендантом Будапешта), известный нелегал Александр Коротков. В их задачи входила организация захвата и арест членов правительства Имре Надя.
За один день были захвачены все основные объекты в Будапеште, члены правительства Имре Надя укрылись в югославском посольстве.
22 ноября в 18.30 у посольства Югославии в Будапеште выстроились легковые автомобили и небольшой автобус, в котором находились дипломаты и члены венгерского правительства, в том числе и Имре Надь. Полполковник КГБ приказал пассажирам автобуса покинуть его, но дожидаться реакции не стал. Автобус взяли в «коробочку» несколько бронетраспортеров. Председатель КГБ Серов доложил в ЦК, что «И. Надь и его группа арестованы, доставлены в Румынию и находятся под надежною охраной».
Ликвидация Степана Бандеры

Ликвидировать Степана Бандеру было не так просто. Он всегда ходил с телохранителями. Кроме того, его опекали западные спецслужбы. Благодаря их содействию несколько покушений на лидера ОУН было сорвано.
Но КГБ умел ждать. Агент КГБ Богдан Сташинский несколько раз приезжал в Мюнхен (под именем Ганса-Иоахима Будайта), пытаясь найти следы Степана Бандеры. В поисках помог... простой телефонный справочник. Псевдоним Бандеры был «Поппель» (нем. дурак), его то и нашед Сташинский в справочнике. Там же значился и адрес предполагаемой жертвы. Затем много времени ушло на подготовку к операции, поиск путей отхода, подбор отмычек и так далее.
Когда Сташинский в следующий раз прибыл в Мюнхен, с ним уже было орудие убийства (миниатюрное двуствольное устройство, заряженное ампулами с цианистым калием), ингалятор и защитные таблетки.
Агент КГБ начал ждать. Наконец, 15 октября 1959 года, примерно в час дня он увидел, как машина Бандеры заезжает в гараж. Сташинский воспользовался заранее приготовленной отмычкой и первым проник в подъезд. Там были люди - какие-то женщины переговаривались на верхних площадках.
Первоначально Сташинский хотел дождаться Бандеру на лестнице, но долго там оставаться он не мог - его могли обнаружить. Тогда он решил спускаться по лестнице. Втреча состоялась уже у квартиры Бандеры на третьем этаже. Украинский националист узнал Богдана - до этого он уже встречал его в церкви. На вопрос «Что вы здесь делаете?» Сташинский протянул в сторону лица Бандеры газетный сверток. Прозвучал выстрел.
Операция "Тукан"

Кроме акций возмездия и организации подавления восстаний КГБ СССР также много сил уделял поддержке угодных Советскому Союзу режимов за рубежом и борьбе с неугодными.
В 1976 году КГБ совместно с кубинской спецслужбой ДГИ была организована операция «Тукан». Она заключалась в формировании нужного общественного мнения по отношению к режиму Аугусто Пиночета, который неоднократно заявлял, что главным его врагом и врагом Чили является коммунистическая партия. По словам бывшего офицера КГБ Василия Митрохина, идея операции принадлежала лично Юрию Андропову.
«Тукан» преследовал две цели: дать негативный образ Пиночета в средствах массовой информации и простимулировать правозащитные организации к началу активных действий по внешнему давлению на лидера Чили. Информационная война была объявлена. В третьей по популярности американской газете New York Times вышло целых 66 статей, посвящённых правам человека в Чили, 4 статьи, посвящённых режиму Красных кхмеров в Камбодже и 3 статьи о соблюдении прав человека на Кубе.
Во время операции «Тукан» КГБ также сфабриковал письмо, где американская разведка обвинялась в политических преследованиях чилийской спецслужбы ДИНА. В дальнейшем многие журналисты, включая Джека Андерсона из New York Times, даже использовали это сфабрикованное письмо как доказательство причастности ЦРУ к нелицеприятным моментам операции «Кондор», направленной на ликвидацию политической оппозиции в ряде стран Южной Америки.
Вербовка Джона Уолкера

КГБ был известен многими успешными вербовками специалистов западных спецслужб. Одной из самых удачных оказалась вербовка в 1967 году американского шифровальщика Джона Уолкера.
В это же время в руках КГБ оказалась американская шифровальная машина KL-7, которая использовалась всеми службами США для шифровки сообщений. По словам журналиста Пита Эрли, который написал о Уолкере книгу, с вербовкой американского шифровальщика возникла ситуация, «как если бы ВМС США открыли филиал своего центра коммуникаций прямо посреди Красной площади».
Все годы (17 лет!), пока Джон Уолкер не был рассекречен, вооруженные и разведовательные силы США оказывались в патовой ситуации. Где бы ни проходили секретные учения, организуемые по всем правилам конспирации, всегда рядом оказывались сотрудники КГБ. Уолкер передавал таблицы ключей к шифровальным кодам ежедневно, но вовлек в свою агентурную сеть семью, что его и погубило.
На скамье подсудимых он оказался благодаря показаниям бывшей жены Барбары. Его приговорили к пожизненному заключению.
Освобождение заложников "Хезболлы"

30 сентября 1985 года в Бейруте были захвачены четверо сотрудников советского посольства (двое из них - кадровые сотрудники КГБ Валерий Мыриков и Олег Спирин). Захват происходил «по классике»: блокировка машин, черные маски, стрельба, угрозы. Сотрудник консульского отдела Аркадий Катков попробовал оказать сопротивление, но один из нападавших остановил его пулеметной очередью.
Ответственность за захват взяла на себя ливанская группировка «Силы Халеда Бин аль-Уалида», однако бейрутская резидентура КГБ установила, что истинными организаторами захвата являлись шиитские фундаменталисты «Хезболлы» и палестинские активисты ФАТХа. Также поступила информаиция о том, что захват советских дипломатов был согласован с радикальными представителями духовенства Ирана, а террористы получили благословение религиозного лидера «Хезболлы» шейха Фадлаллы.
Несколько месяцев назад были обнародованы секретные документы ЦРУ – план тайной спецоперации против СССР. Этот план состоял из 10 пунктов. Американцам понадобилось ровно 10 шагов, чтобы разрушить великую империю – Советский Союз. Согласно расследованию программы на телеканале «Звезда», этот план пытаются применить вновь – теперь в отношении России.Многие до сих пор считают, что Советский Союз . Однако это не так. Против Советского Союза применили тайную операцию по уничтожению.ШАГ 1. ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА США Любая война всегда начинается с документов. Первым делом спецслужбы – Пентагон и ЦРУ – получают санкцию президента. Такие бумаги, как правило, имели высший гриф секретности. Ведь попади они в руки противника, могли спровоцировать самую настоящую войну. Часть документов со временем стала достоянием общественности.Один из таких документов – директива NSDD – или National Security Decision Directives - «Национальные секретные руководящие инструкции». 17 января 1983 года этот документ лег на стол президенту США Рональду Рейгану. Подготовил его Уильям Кейси – тринадцатый директор ЦРУ. По сути, этот документ являлся планом по расшатыванию СССР. Директива NSDD под грифом «совершенно секретно» предполагала тайные наступательные операции против Советов.По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, такие планы существуют и сейчас.«Самые свежие из просочившихся в прессу подобных планов – это появившийся в конце 2016 года доклад RAND Corporation - очень известный американский исследовательский институт, аффилированный со спецслужбами и с министерством обороны США. В рамках этого документа излагается следующая концепция: США в дальнейшем придется сталкиваться с усилением своих ключевых противников в мире – имеется в виду Россия, Китай и Иран. С силами, чуть менее устойчивыми, чем Китай, придется действовать как раз, как американцы это назвали – силой принуждения», - подчеркнул Егорченков.«Открытым текстом пишется о том, что необходимо поддерживать все формы внутренней оппозиции. В прошлом году на сайте госзакупок США появился запрос об исследовании фактора русского национализма в России и возможных вариантов его использования», - добавил эксперт.ШАГ 2. НАБРАТЬ КОМАНДУ ПОЛИТИЧЕСКИХ КИЛЛЕРОВ Американская разведка – это огромный организм. В его основе лежат деньги - бюджет ведомства. Его размер является государственной тайной, однако благодаря разоблачениям Эдварда Сноудену сумма стала известна, она составляет порядка 15 млрд долларов в год.По словам экспертов, как правило, разведчики базируются в приличном, статусном месте, например, в посольстве.«Это же очень удобно, дипломатическая почта не досматривается. Ничего, никаких вопросов с въездом в страну, аккредитованный дипломат, поэтому, когда кого-то объявляют персоной нон-грата, обязательно объявляет другая страна, то есть, примерно мы знаем, кто в американском посольстве шпион», - утверждает депутат Госдумы РФ Александр Сидякин.Также местами дислокации американской разведки называют офисы всевозможных либеральных организаций и фондов. Еще недавно в России легально действовал NDI – национальный демократический институт, созданный во времена Рейгана Уолтером Реймондом - одним из главных специалистов ЦРУ по зарубежной пропаганде.ШАГ 3. СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВНИКЕ Профильные американские ведомства тщательно собирали информацию о жизни в России еще со времен Советского Союза, когда границы были закрыты на замок. Американцев интересовало все: что едят, во что деваются, сколько зарабатывают, о чем говорят и, особенно, чем недовольны советские граждане.Сейчас самый большой объем информации предоставляют социальные сети. Люди сами выкладывают миллионы снимков каждый день, личные данные, данные родственников, друзей, место работы, обмениваются мнениями, дают оценку политическим событиям.Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверяет, что этих данных с лихвой хватает американцам для изучения интересов россиян.«Охват этих соцсетей настолько велик, что практически покрывается все, интересное американским или смежным с ними спецслужбам пространство проживания. То есть все, что может быть интересным американским спецслужбам, все находится сейчас в соцсетях», - отмечает эксперт.Огромный массив сведений собирается, анализируется, составляется среднестатистический портрет жителя страны, с которым понятно, как работать в своих целях.ШАГ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТАКА В советское время работала не только известная всем радиостанция «Голос Америки», но еще и Служба международной информации и обменов государственного департамента, Служба международной информации в структуре НАТО, радиостанция «Свобода». Ряд СМИ ведут активную пропагандистскую деятельность – любым недовольным дают трибуну. В поле зрения американцев попадают не только деятели традиционных СМИ, но и те, кто пишет или снимает для Сети.«К прошедшим выборам было проведено исследование. Оказалось, что внешние игроки в сфере СМИ очень активно занимались скупкой блогов в российских регионах, через которых можно было потом транслировать совершенно очевидную, понятную повестку», - указывает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова.Вся эта деятельность «карманных» СМИ напрямую связана с так называемыми «агентами влияния».ШАГ 5. ПОДОБРАТЬ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ Дорога в «агенты влияния», как правило, начинается со знакомства. Сначала Вас приглашают в посольство, затем вручают билеты или путевку на какую-нибудь образовательную программу. Это может быть программа для учителей, юристов, ну и, разумеется, для журналистов и молодых политиков.По словам политологов, на каждом митинге эти «агенты влияния» отрабатывают деньги, сквозь слезы рассказывая душераздирающие истории якобы про пытки в застенках - все это должно работать на аудиторию.«Каждый человек на своем месте, каждый человек знает, что ему делать, и эти люди в нужный момент организуют движение толпы в определенную сторону, эти люди в определенный момент возбуждают толпу на выкрикивание определенных лозунгов. Эти люди начинают, например, оскорбление или атаки на представителей власти. на представителей силовых структур, то есть, эти люди все время являются спусковым крючком, который уже высвобождает энергию толпы», - уверяет политолог Кирилл Стрельников.ШАГ 6. СОЗДАНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ Россиянам транслируют идеи, которые кочуют из уст в уста еще со времен СССР: Россия якобы страна-агрессор, притесняющий народ на Украине, в Сирии и тому подобное. Интересная логика, то есть, у американских солдат есть право наводить порядки за пределами страны, а у русских – нет, и они должны тихо сидеть у себя на родине.ШАГ 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СБОЙ Стоит обратить внимание на один малоизвестный факт. В 1980-х глава ЦРУ лично посетил Саудовскую Аравию. Аналитический отдел ЦРУ подсчитал, что, если цены на нефть на мировом рынке упадут всего на 1 доллар, то СССР будет терять от 500 млн до 1 млрд долларов в год. Историки утверждают, что это и стало целью поездки шефа ЦРУ Уильяма Кейси, который сделал шейху «интересное предложение». После переговоров властей Саудовской Аравии с Кейси добыча нефти в стране резко подскочила вверх. Так, в 1986 году потери СССР от падения цен на нефть составили 13 млрд долларов.Спецоперация по занижению цен на нефть в 2013-14 гг. один в один повторила ситуацию с Советским Союзом. Саудовская Аравия включила насосы на полную мощность и начала качать нефть, а вслед за ней и США увеличили добычу нефти на 48%.Чтобы окончательно добить экономику России, США ввели санкции против нее. Американцы запретили крупные международные сделки, стали преследовать российских предпринимателей за рубежом.ШАГ 8. ПОДРЫВНАЯ РАБОТА В РЕГИОНАХ В Советское время аналитики американских спецслужб целенаправленно работали с правительствами союзных республик СССР и стран соцлагеря – в Польше, Латвии, Литве, Эстонии. Там искусственно создавалось недоверие к Москве.Среди рассекреченных 13 миллионов документов ЦРУ есть доклад . Согласно ему, в 1957 году американская разведка разработала план антисоветского вооруженного восстания в Украинской союзной республике. Спецслужбы ЦРУ по полочкам разложили настроения жителей УССР и спрогнозировали межнациональное напряжение между русскими и украинцами. Особый акцент разведка сделала на местных жителях, которые будут сотрудничать с американским спецназом в ходе вторжения.Сейчас история повторяется, но уже в регионах России. Например, в Екатеринбурге – столице Урала - количество американских представителей и работников посольств просто зашкаливает. Только за 2015 год посол США в России Джон Теффт дважды посещал Екатеринбург. В том же году сюда приезжала Кейтлин Кавалек – заместитель Виктории Нуланд, на тот момент занимавшей пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.ШАГ 9. РАСКОЛ ЭЛИТ Важнейшим шагом в войне спецслужб против России станет формирование сочувствующих среди представителей высших эшелонов власти. Сейчас эта работа ведется в первую очередь среди бизнес-элит. Во времена СССР важнейшим успехом для США стала именно неразбериха в высших эшелонах власти. 9-й шаг технологии западных спецслужб Россию еще не коснулся.ШАГ 10. СПУСКОВОЙ КРЮЧОК В СССР это произошло в конце 1980-х. Экономические проблемы приводят к продуктовому дефициту. Страна встает в длинные очереди за предметами первой необходимости. «Агенты влияния» обещают людям достойную жизнь и демократические свободы. Народ покупают за джинсы, колу и жвачку и выводят на улицу. В некоторых регионах начинаются табачные бунты. Среди элит царит предательство. .Эксперты уверены, чтобы не допустить реализации плана ЦРУ по развалу России, стоит задуматься не только политической власти, но и обычным гражданам.
Операция была проведена войсками Белорусского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского.
Главный удар наносился с плацдарма у Лоева силами 48-й, 61-й и 65-й армий. Войска 11-й и 63-й армий действовали севернее Гомеля.
В середине октября 1943 г. , используя захваченные в первой половине октября плацдармы на западном берегу Прони и Сожа, войска правого крыла Белорусского фронта возобновили наступление на Бобруйск. Войска левого крыла этого фронта 16 октября форсировали Днепр южнее Лоева, освободили город и продвинулись на запад до 15-20 км, создав непосредственную угрозу охвата Гомеля и всей 2-й немецкой армии, удерживавшей южные районы Беларуси. Для 2-й и 9-й немецких армий он был важнейшим железнодорожным узлом, где сходились основные коммуникации этих армий. В течение второй половины октября и первых чисел ноября войска Белорусского фронта вели бои за расширение плацдармов на Днепре и готовились к решительным боям за Гомель. В ночь на 18 ноября они перерезали железную дорогу Гомель – Калинковичи, а 18 ноября овладели Речицей, тем самым отрезав врагу путь отхода на запад.
В тот же день в Москве впервые был дан салют в честь белорусского города Речица, освобожденного советскими войсками.
К вечеру 25 ноября советские войска с трех сторон подошли к Гомелю и вскоре завязали бои на улицах города. Бои продолжались всю ночь и уже утром 26 ноября Гомель был полностью очищен от гитлеровцев. Это был первый областной центр Беларуси, освобожденный Красной Армией. В тот же день вечером Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам, освободившим город.
Первыми в Гомель вступили подразделения 217-й стрелковой дивизии (командир полковник Н.П.Массонов), 102-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор А.М.Андреев), 96-й стрелковой дивизии (командир полковник Ф.Г.Булатов), 4-й стрелковой дивизии (командир полковник Д.Д.Воробьев). Над городом взвилось красное знамя, которое водрузил на здании электростанции ефрейтор 2-й роты 39-го стрелкового полка Ф.Васильев. В освобожденный город прибыло белорусское правительство. В городе с 7 декабря 1943 г. по 10 апреля 1944 г. находился штаб Белорусского фронта.
Гомель чтит память своих героев-освободителей. Сегодня улицы города носят их имена: генералов И.Д.Антошкина, А.В.Горбатова,
И.И.Федюнинского, офицеров Г.А.Иванова, Г.М.Головацкого, И.Г.Лапина, И.А.Пархоменко, А.Н.Хуторянского и др.
В ходе операции войска Белорусского фронта нанесли тяжелое поражение группировке противника в районе Гомеля. За 20 дней наступления они продвинулись на запад до 130 км, освободили часть восточных районов Беларуси и вышли, в основном, на рубеж, с которого в июне 1944 г. советские войска начали Бобруйскую операцию. В результате Гомельско-Речицкой операции противник был лишен возможности нанести контрудар с северо-запада со стороны Мозыря войскам 1-го Украинского фронта и не смог перебросить из Беларуси в район Киева ни одной дивизии.
На западном направлении советские войска освободили Смоленскую и Брянскую области, восточные районы Беларуси и к концу года вели бои на подступах к Витебску и Орше. Форсировав Сож и Днепр (к югу от Жлобина до Лоева), они овладели участком «восточного вала» протяженностью свыше 500 км.
В ходе Гомельско-Речицкой операции большую помощь войскам Белорусского фронта оказали партизаны Беларуси. Отмечая их заслуги,
К.К. Рокоссовский писал: «Народные мстители представляли большую силу и нам нужно было разработать с ними план совместных боевых действий в операции. В этом нам оказал неоценимую помощь тов. П.К.Понаморенко как начальник Центрального штаба партизанского движения».
Зимой 1943-1944гг. на центральном участке советско-германского фронта главные события развернулись на Витебском и Бобруйском направлениях. В декабре 1943г. была проведена наступательная операция войск правого крыла 1-го Прибалтийского фронта с целью ликвидации Городоцкого выступа, который обороняли войска 3-й танковой армии группы армий «Центр».
В период с 13 по 31 декабря 1943 г. войска 4-й ударной и 11-й гвардейской армий провели Городскую операцию. Частичную помощь оказывала и 43-я армия.
В течение двух недель шли напряженные бои на широком фронте от Невеля до Лиозно. Штурм города Городок начался в 11 часов 24 декабря 1943 г., к исходу дня город был освобожден. За время операции советские войска продвинулись на 60 км, ликвидировали Городокский выступ, создали условия для наступления на витебском направлении.
Частями Красной Армии было освобождено 1220 населенных пунктов Витебской области, уничтожено свыше 65 тыс. вражеских солдат и офицеров, взято в плен 3300 гитлеровцев, захвачено много боевой техники. Цель операции в основном была достигнута.
В этих боях отличились и наши земляки. Так, 145-й стрелковой дивизией командовал белорус генерал-майор Анисим Стефанович Люхтиков, 204-й стрелковой дивизией – полковник Ксаверий Михайлович Байдак, 35-й гаубичной артиллерийской бригадой – полковник Петр Семенович Кушнер.
В последующих боях за освобождение города Витебска генерал
А.С. Люхтиков командовал уже 60-м стрелковым корпусом. 12 войсковых частей удостоены почетного наименования Городских. Четырем участникам боев за освобождение города Городка в послевоенные годы было присвоено звание «Почетных граждан города Городка». Это командир дивизиона 7-й гвардейской минометной бригады Владимир Демидович Буценко, начальник артиллерии 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской Городской стрелковой дивизии полковник Рафгат Ахтямович Валиев (после войны стал генералом, лауреатом Ленинской премии СССР), командир взвода лейтенант Рувим Захарович Кожевников и инструктор политотдела 11-й гвардейской стрелковой дивизии подполковник Михаил Степанович Позднин.
В операции принимали участие 61-я армия генерала П.А.Белова, 65-я армия генерала Л.И.Батова и 16-я воздушная армия генерала С.И.Руденко.
В результате операции советские войска продвинулись на 60 км, отбросили противника до р. Птичь и в район Петрикова, нанеся врагу значительные потери.
В боях за Калинковичи особо отличился командир 9-го гвардейского стрелкового корпуса белорус генерал А.А.Борейко: 14 января 1944 г. были освобождены города Мозырь и Калинковичи, а 15 января 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза.
В ходе Калинковичско-Мозырской операции 20 января 1944г. был освобожден поселок Озаричи. В боях за Озаричи отличился командир взвода 1184-го артиллерийской бригады лейтенант Анатолий Андреевич Ананьев (после войны главный редактор журнала «Октябрь» (1973-2001 гг.), впоследствии Герой Социалистического Труда, известный советский писатель, почетный гражданин города Калинковичи, автор романа «Танки идут ромбом»).
В боях за город Калинковичи отличились офицеры Николай Федорович Васильев, Павел Кузьмич Ежак, Николай Ильич Есин, Николай Петрович Жгун, Иван Иванович Ладутько, Араб Савбетович Шахбазов. Все они в послевоенные годы удостоены звания «Почетный гражданин города Калинковичи». Кроме них, этого звания удостоены и генералы – участники освобождения города Калинковичи: Александр Васильевич Кирсанов, Павел Иванович Батов, Михаил Федорович Панов и Михаил Иванович Шеремет.
Командир батальона белорус капитан Иван Иванович Ладутько в боях за город Калинковичи был награжден орденом А.Невского. В последующих боях он стал Героем Советского Союза.
В боях за Мозырь отличились начальник политотдела кавалерийской дивизии полковник Евгений Евгеньевич Алексиевский, летчик-белорус лейтенант Михаил Владимирович Борисов, командир артиллерийской бригады белорус полковник Казимир Францевич Викентьев и командир 14-й кавалерийской дивизии генерал Григорий Петрович Коблов. Все они в послевоенные годы стали почетными гражданами города Мозыря.
В разгроме мозырской группировки противника войскам Белорусского фронта помогали полесские партизаны. 38-я Ельская бригада 28 ноября 1943 года вместе с воинской частью выбила противника из Ельска, 28-я Наровлянская бригада в ночь на 30 ноября 1943 года вместе с 415-й стрелковой дивизией освободила Наровлю. Полесские партизаны участвовали в освобождении городов Василевичи, Лельчицы, Калинковичи и других населенных пунктов. Непосредственно взаимодействовали с воинскими частями витебские и могилевские партизаны. Широко развернули боевую деятельность партизанские соединения других областей.
Говоря о значении боев в белорусском Полесье в осеннее-зимний период 1943-1944гг.,следует отметить, что войска Красной Армии с помощью белорусских партизан сумели прорвать сплошной стратегический фронт противника, чем затруднили его маневр силами и средствами вдоль фронта между группировками немецко-фашистских войск. От Ковеля до Гомеля – на этом огромном фронте советские войска продемонстрировали свое высокое воинское мастерство.
С сентября до конца декабря 1943г. было разгромлено около 40 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых и моторизованных. Враг был отброшен назад, что создало благоприятные условия для полного изгнания врага из пределов Советского государства.
В этой операции приняли участие войска правого крыла первого Белорусского фронта в составе 3-й армии, части сил 50-й и 48-й армии и 16-й воздушной армии. Главная роль отводилась 3-й армии генерала А.В.Горбатого, которой ставилась задача овладеть городом Рогачевым и в дальнейшем наступать на Бобруйск. 24 февраля был освобожден Рогачев, войска продвинулись до р. Друть, захватили на правом берегу Днепра между Новым Быховым и Рогачевом плацдарм южнее Рогачева и вышли на подступы к Жлобину. В ходе операции войска нанесли серьезное поражение 9-й армии противника, создали условия для последующего наступления на Бобруйском направлении.
В освобождении города Рогачева особо отличилась 120-я гвардейская стрелковая дивизия, за что была удостоена почетного наименования «Рогачевская». Дивизия входила в состав 41-го стрелкового корпуса, которым командовал белорус генерал Виктор Казимирович Урбанович. Начальником артиллерии в этом корпусе был также белорус генерал Федор Александрович Кандидатов.
В этой операции 37 бойцов и командиров были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них русские Валентин Кузьмич Ардашев, Яков Павлович Зайцев, Степан Андреевич Никитин, казах Хасан Мамутов, калмык Эльмурза Джумагулов. Все они в послевоенные года стали почетными гражданами города Рогачева.
Среди почетных граждан командиры полков, которые отличились в боях за город Рогачев: украинец полковник Петр Васильевич Кочура и армянин, командир 310-го артиллерийского полка полковник Андроник Айрапетович Каграманян.
В боях за город Рогачев особо отличился командир 248-го истребительного авиационного полка подполковник Иван Николаевич Абалтусов, который 14 февраля 1944 г. направил свой самолет на вражескую колонну войск, тем самым совершил такой же подвиг, как Николай Гастелло.
В боях за Рогачев в феврале 1944 года особо отличился командир стрелковой роты 1020 стрелкового полка 269 стрелковой дивизиистарший лейтенант И.И.Хмелев. 20 февраля 1944 года он скрытно вывел роту к проволочным заграждениям противника и в конце артподготовки лично возглавил атаку. Деревня Вищин была занята, образовался плацдарм на правом берегу, обеспечивающий переправу боевой техники по льду. В последующем бою он был смертельно ранен и похоронен в деревне Вищин.
Пулеметчик К.Мамутов (336 стрелковый полк 120-й гвардейской стрелковой дивизии) 21 февраля 1944 года переправился через Днепр в районе деревни Кистени, уничтожил несколько пулеметных расчетов противника. В бою за город Рогачев 24 февраля 1944г. он первым ворвался в траншею противника, в рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев. Был удостоен звания Героя Советского Союза В послевоенные годы удостоен звания «Почетный гражданин г.Рогачева».
В боях за освобождение Рогачева отличились и танкисты. Командир танкового взвода старший лейтенант Э.Б.Джумагулов во главе взвода переправился через р. Друть в районе Рогачева, лично уничтожил большое количество гитлеровцев, перерезал шоссе Рогачев-Бобруйск, чем способствовал успешному наступлению частей на Бобруйск.
Кампания началась завершающей операцией битвы за Ленинград - Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операцией. Она проводилась в период с 10 июня по 9 августа войсками правого крыла Ленинградского и левого крыла Карельского фронтов при содействии сил Балтийского флота и Онежской военной флотилии.
В ходе двухмесячных боев советские войска освободили территория Карело-финской ССР, северные районы Ленинградской области и нанесли сокрушительное поражение финской армии. Успешные действия советских войск в этой операции существенно изменили обстановку на северном участке советско-германского фронта, предопределили выход Финляндии из войны, создали условия для освобождения советского Заполярья и северных районов Норвегии. Германия потеряла вслед за Италией еще одного союзника.
Лето 1944 года ознаменовалось наступлением советских войск в Белоруссии. Ее удержанию фашистское командирование придавало особенно большое значение, так как оборонявшиеся здесь немецкие войска прикрывали кротчайшие пути в Восточную Пруссию и Польшу. На этом участке была сосредоточена крупная группировка, в общей сложности насчитывающая 1, 2 миллиона человек, 9,5 тысяч орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий и 1350 боевых самолетов1.
Одна из крупнейших во Второй мировой войне Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» проводилась в период с 23 июня по 29 августа 1944 года войсками 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов совместно с Днепровской военной флотилией.
К началу операции численность войск четырех фронтов и флотилии составляла 2 миллиона 330 тысяч человек, кроме того, в частях 1-ой армии Войска Польского, принимавших участие в этой операции, насчитывалось 80 тысяч человек2. На вооружении войск фронтов имелось 35 тысяч орудий и минометов, 5 тысяч танков и 5,5 тысяч боевых самолетов3. Белорусская стратегическая операция проводилась в два этапа.
На первом этапе (23 июня - 4 июля) были осуществлены Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская, на втором этапе (5 июля -29 августа) - Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, Белостокская и Люблин-Брестская фронтовые наступательные операции.
В результате сражений войска фронтов разгромили одну из наиболее сильных вражеских группировок - группу армий «Центр», ее 17 дивизий и 3 бригады были уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава.
Советские войска продвинулись на 550-600 километров и освободили всю Белоруссию, часть Литвы и Латвии, польские земли к востоку от Нарева и Вислы. Красная Армия вступила на территорию Польши и выдвинулась к границам восточной Пруссии. В ходе наступления форсированы крупные водные преграды - Березина, Неман, Висла, захвачены важные плацдармы на их западных берегах.
По далеко не полным данным, гитлеровцы потеряли 500 тысяч солдат и офицеров1.
Безвозвратные потери советских войск в этой операции составили 180 тысяч человек. Санитарные потери (ранено, контужено, заболело) насчитывали 590 тысяч человек2.
В самый разгар Белорусского сражения началась Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция (13июля - 29 августа). Она проводилась войсками 1-го украинского фронта. На первом этапе (13-27 июля) была прорвана оборона противника, окружена и уничтожена бродская, разгромлены львовская и рава-русская группировки противника; освобождены города Львов, Рава-Русская, Перемышль, Станислав и другие. На втором этапе (28 июля -29 августа) войска фронта, развивая наступление, форсировали Вислу и захватили плацдарм на ее западном берегу в районе Сандомира.
В результате операции войска 1-го Украинского фронта нанесли тяжелое поражение группе армий «Северная Украина». Из участвовавших в сражении 56 дивизий было уничтожено 8 и разгромлено 323. Это в свою очередь, отрицательно сказывалось на положении группы армий «Южная Украина», оборонявшихся в Молдавии и Румынии.
Очередной в летне-осенней кампании 1944 года сокрушительный удар по немецко-фашистским войскам был нанесен в ходе Ясско-Кишеневской стратегической наступательной операции (20-29 августа). Она проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов, Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. В этой операции советские войска в короткие сроки разгромили главные силы группы армий «Южная Украина», уничтожили 22 немецкие и почти все румынские дивизии, находившиеся на советско-германском фронте, взяли в плен 210 тысяч солдат и офицеров, захватили большое количество военной техники1. Была освобождена Молдавия, выведена из фашистского блока Румыния, которая затем объявила войну Германии.
Новый удар по врагу был нанесен в Прибалтике. В период с 14 сентября по 24 ноября 1944 года войсками 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и частью сил Ленинградского фронта при содействии Балтийского флота была проведена Прибалтийская стратегическая наступательная операция, а в рамках ее - Рижская, Мемельская фронтовые наступательные операции и Моонзундская десантная операция.
В результате 72 суточных боев почти полностью завершено освобождение Прибалтики и созданы благоприятные условия для развития наступления в восточной Пруссии. Войскам немецкой группы армий «Север» нанесено крупное поражение. Ее оставшиеся соединения оказались прижатыми к морю в Курляндии, в районе Мемеля, и отрезаны с суши от восточной Пруссии.
Хотя успехи Красной Армии уверенно приближали окончание войны, советский народ надеялся, как это было давно обещано нашими союзниками, на открытие второго фронта. Это ускорило бы разгром Германии и сократило бы потери наших войск. Правительства США и Англии декларативно поддерживали это намерение, но на деле не считали реальной высадку союзных войск во Франции в 1942 году. Второй фронт не был открыт и 1943 году. Красная Армия уже почти 3 года один на один сражалась с главными силами гитлеровских войск, неся большие потери. И только после того, как ослабли войска Германии на Западе (и количественно и качественно) и стало ясно, что Красная армия может и без помощи союзников разгромит фашистские вооруженные силы и самостоятельно освободить Европу от гитлеровской оккупации, в июне 1944 года в ходе Нормандской десантной операции был открыт второй фронт. Через пролив Ла-Манш на побережье Франции высадился большой десант англо-американских сил. В нем участвовали также канадские, французские и другие войска стран антигитлеровской коалиции. Это была самая крупная морская десантная операция Второй мировой войны. В ней участвовали около 3 миллионов человек, 6 тысяч танков, 15 тысяч орудий и минометов, 11 тысяч боевых самолетов, около 7 тысяч кораблей, транспортных и десантных судов.
Нормандская десантная операция союзников сыграла значительную роль а приближении полного разгрома фашизма. Но руководство вермахта не произвело серьезных изменений в группировке своих сил. По-прежнему решающим оставался советско-германский фронт. Здесь находились основные силы вермахта. Германия, хотя и производила усиленную мобилизацию среди населения, уже не могла полностью восполнить те большие потери, которые она несла на восточном фронте. Но ее армия еще сохраняла способность к жесткому сопротивлению. К началу июля на западном фронте находилось 65 дивизий, а против советских войск действовало 235 дивизий противника. В январе 1945 года советским соединениям противостояло 195 дивизий, а союзным войскам в Западной Европе - 74 дивизии противника.
К 25 июля англо-американские войска смогли создать необходимый стратегический плацдарм. В Нормандской десантной операции, завершившейся к тому времени, союзники потеряли 120 тысяч человек, немецко-фашистские войска - свыше 113 тысяч человек.
В летне-осенней кампании 1944 года Красной Армией проведены многие успешные операции. Важнейшим военно-политическим итогом наступления советских воск очищена от врага территория общей площадью 930 тысяч км2, на которой до войны проживало до 39 миллионов человек.
Наряду с изгнанием вражеских войск за пределы советской территории, Красная Армия преступила к выполнению задач по вызволению из фашистской неволи народов европейских стран.
После Второй мировой войны СССР участвовал во многих локальных военных конфликтах. Участие это было неофициальным и даже секретным. Подвиги же советских солдат на этих войнах навсегда останутся неизвестными.
Гражданская война в Китае 1946-1950.
К окончанию Второй мировой войны в Китае сложилось два правительства, а территория страны была разделена на две части. Одна из них контролировалась партией Гоминьдан, возглавляемой Чан Кайши, вторая – коммунистическим правительством с Мао Цзэдуном во главе. США поддерживала Гоминьдан, а СССР – Коммунистическую Партию Китая.
Спусковой крючок войны был спущен в марте 1946 года, когда 310-тысячная группировка гоминьдановских войск при непосредственной поддержке США начала наступление на позиции КПК. Они захватили почти всю Южную Манчжурию, оттеснив коммунистов за реку Сунгари. Одновременно с этим начинается ухудшение отношений с СССР – Гоминьдан под разными предлогами не выполняет условий советско-китайского договора «о дружбе и союзе»: расхищается имущество КВЖД, закрываются советские СМИ, создаются антисоветские организации.
В 1947 году в Объединенную демократическую армию (впоследствии Народная Освободительная армия Китая) прибыли советские летчики, танкисты, артиллеристы. Решающую роль в последующей победе КПК сыграло и вооружение, поставляемое китайским коммунистам из СССР. По некоторым сведениям, только осенью 1945 года НОА получила от СССР 327 877 винтовок и карабинов, 5207 пулеметов, 5219 артиллерийских орудий, 743 танка и бронемашины, 612 самолетов, а также корабли Сунгарийской флотилии.
Кроме того, советские военные специалисты разработали план управления стратегической обороной и контрнаступления. Все это способствовало успеху НАО и установлению коммунистического режима Мао Цзэдуна. За время войны на территории Китая погибло около тысячи советских солдат.
Корейская война (1950-1953).
Сведения об участии вооруженных сил СССР в Корейской войне долгое время были засекречены. В начале конфликта Кремль не планировал участия в нем советских военнослужащих, однако масштабное вовлечение США в противостояние двух Корей изменило позицию Советского Союза. Кроме того, на решение Кремля вступить в конфликт повлияли и провокации американцев: так, 8 октября 1950 года два американских штурмовика даже нанесли бомбовый удар по базе ВВС Тихоокеанского флота в районе Сухой Речки.
Военная поддержка КНДР Советским Союзам была направлена главным образом на отражение агрессии США и осуществлялась за счет безвозмездных поставок вооружения. Специалисты из СССР готовили командные, штабные и инженерно-технические кадры.
Основная военная помощь оказывалась авиацией: советские летчики делали боевые вылет на МиГ-15, перекрашенных в цвета китайских ВВС. При этом пилотам запрещалось действовать над Жёлтым морем и преследовать самолёты противника южнее линии Пхеньян – Вонсан.
Военные советники из СССР присутствовали в штабах фронта только в гражданской одежде, под видом корреспондентов газеты «Правда». Об этом специальном «камуфляже» упоминается в телеграмме Сталина генералу Штыкову, сотруднику дальневосточного отдела МИД СССР,
До сих пор остается неясным, сколько же на самом деле советских солдат было в Корее. Согласно официальным данным, за время конфликта СССР потерял 315 человек и 335 истребителей МиГ-15. Для сравнения, Корейская война унесла жизни 54 246 тысяч американцев, а свыше 103 тысяч были ранены.
Война во Вьетнаме (1965-1975)
В 1945 году было провозглашено создание Демократической Республики Вьетнам, власть в стране перешла к коммунистическому лидеру Хо Ши Мину. Но Запад не спешил отказываться от своих бывших колониальных владений. Вскоре на территорию Вьетнама высадились французские войска с целью восстановить свое влияние в регионе.
В 1954 году в Женеве состоялось подписание документа, согласно которому признавалась независимость Лаоса, Вьетнама Камбоджи, а страна делилась на две части: Северный Вьетнам во главе с Хо Ши Мином и Южный - с Нго Динь Зьем. Последний быстро потерял популярность у народа, а в Южном Вьетнаме разгорелась партизанская война, тем более что непроходимые джунгли обеспечивали ей высокую эффективность.
2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама, обвинив страну в расширении партизанского движения на юге. Реакция СССР была незамедлительной. С 1965 года начинаются широкомасштабные поставки военной техники, специалистов и солдат во Вьетнам. Все происходило в условиях строжайшей секретности.
По воспоминаниям ветеранов, перед вылетом солдат переодевали в гражданскую одежду, их письма домой проходили такую жесткую цензуру, что попади они в руки постороннего человека, последний смог бы понять лишь одно: авторы отдыхают где-то на юге и наслаждаются своим безмятежным отпуском.
Участие СССР во вьетнамской войне было настолько засекреченным, что до сих пор не ясно, какую роль сыграли советские военнослужащие в этом конфликте. Существует многочисленные легенды о советских летчиках-асах, сражающихся с «фантомами», чей собирательный образ воплотился в летчике Ли-Си-Цыне из известной народной песни.
Однако, по воспоминаниям участников событий, нашим пилотам было категорически запрещено вступать в бой с американскими самолетами. Точное количество и имена советских солдат, участвовавших в конфликте неизвестны до сих пор.
Война в Алжире (1954-1964)
Национально-освободительное движение в Алжире, получившее размах после Второй мировой войны, в 1954 году переросло в настоящую войну против французского колониального господства. СССР в конфликтен принял сторону повстанцев. Хрущев отмечал, что борьба алжирцев против французских организаторов носит характер освободительной войны, в связи с чем, ее должен поддержать ООН.
Силовые акции за границей
В 20-х годах ИНО ГПУ продолжала успешно начатую еще ВЧК практику силовых расправ с наиболее опасными для Советского Союза эмигрантскими лидерами. В Китае в результате изощренной операции засланными чекистами захвачен атаман Анненков, правнук известного поэта-декабриста, заметная фигура в казачьей белой эмиграции, по типажу очень схожий с атаманом Дутовым, с убийства которого ЧК в китайских пределах стартовала такая кампания.
Операция против Анненкова была вызвана той же ненавистью в ГПУ к атаману сибирских казаков и колчаковскому генералу, отличавшемуся в 1919–1920 годах особой жестокостью к пленным красноармейцам и партизанам, руководившим у Колчака карательными рейдами, а в эмиграции развернувшему активную деятельность по заброске офицерских групп белых террористов в СССР.
Кроме воспоминаний о щедро проливаемой Анненковым крови красных в годы Гражданской войны, особая пристрастность ГПУ к этому атаману объяснялась тем, что в китайской эмиграции Анненков стал главным борцом с течением «возвращенцев», клюнувших на советские обещания амнистии. Анненков притворно прощался с пожелавшими вернуться на советскую территорию своими подчиненными, после чего его верные казаки из засады расстреливали двинувшихся к советским границам для острастки других, решивших примириться с большевизмом. На перевале Карагач у китайско-советской границы его люди устроили из пулеметов бойню целого каравана таких «возвращенцев» еще в 1920 году, практически сразу после ухода остатков армии Анненкова в пределы Китая. Наверняка в ГПУ и это учитывали в решении любой ценой обезвредить и захватить атамана Анненкова.
На советском суде Анненков отвергал обвинения в этих расправах в свой адрес, там же он отрицал многие ходившие о нем с Гражданской войны легенды, рисовавшие его облик совсем уж демоническими красками. Что он где-то при карательном рейде изнасиловал гимназистку, что любил носиться по казахским аулам на автомобиле, стараясь обязательно задавить какое-нибудь животное или туземного ребенка. Все это он отмел, заявив: «Я воевал, мне такой ерундой заниматься было некогда». Почему-то для окончательного припечатания Бориса Анненкова клеймом полусумасшедшего выродка на семипалатинском суде ему в вину ставили и привычку играть по ночам на гармошке, и что в своем Семиреченском казачьем войске завел при штабе целый зоопарк во главе с медведицей, словно любовь к музыке или страсть к животным тоже свидетельствовала в пользу образа «белого зверя».
В 1926 году на китайской территории Анненков с одним из своих приближенных заманен в ловушку чекистов при помощи союзных им местных китайских генералов, захвачен в гостинице китайского города Калган и вывезен в пределы Советского Союза. Операцию курировал лично глава КРО ГПУ Артузов, это была совместная акция чекистской разведки и контрразведки, а саму группу захвата на территории Китая возглавлял Примаков, действовавший здесь под китайским псевдонимом Лин. Сами обстоятельства захвата Анненкова и его заместителя полковника Денисова на китайской территории группой Примакова остаются туманными для историков. То ли их тайно арестовали некие просоветские китайцы и передали Примакову для вывоза через границу, то ли это сделали наемные китайские бандиты хунхузы, то ли сами чекисты выкрали их из номера гостиницы, но в любом случае Анненков и Денисов оказались незаконно похищены и доставлены в Советский Союз. Обычно «сдавшим» Анненкова советской разведке называют местного китайского царька Фэн Юйсяна, к которому Анненков со своими казаками прибыл наниматься на службу и который искал тогда сближения с Москвой, поскольку командовал здесь гоминьдановской Первой народно-революционной армией. Чекистская спецгруппа во главе с сотрудником ГПУ Лихаревым вроде бы вывезла Анненкова через Монголию и Кяхту в советские пределы, откуда его поездом этапировали в Москву. После долгого следствия Анненков предстал за прошлые грехи перед советским судом в Семипалатинске, что не удалось сделать с Дутовым, был приговорен к смертной казни и в 1927 году казнен в Новосибирске.
Историей с похищением атамана Анненкова тщательно занимался Иван Серебренников, ранее эсер и министр снабжения в правительстве Колчака, после своего бегства в Харбин в чехословацком эшелоне с документами чешского солдата ставший в Китае своего рода летописцем белой эмиграции 20 – 40-х годов в этой стране. В своем известном исследовании «Великий отход» о белой эмиграции на Дальнем Востоке Серебренников пишет, что уже тогда ГПУ распространяло ложь о том, что Анненков сам предпочел вернуться в Советский Союз в некоем раскаянии за свои злодеяния в годы Гражданской войны. Во что при близком знакомстве с фигурой Анненкова абсолютно невозможно поверить. Как пишет тот же Серебренников, под следствием чекистов Анненков вел себя очень достойно и даже дерзко, а перед расстрелом пожелал палачам из ГПУ «еще встретиться в бою с его солдатами».
Есть и альтернативные версии, что Анненков в эмиграции и после тюремного заключения у китайцев сдал, впал в депрессию и действительно подался к сменовеховцам, ратовавшим за признание Советов, на этом и попался на уговоры, поехал в Советский Союз добровольно, а здесь был обманут ГПУ и за прошлые грехи казнен. Но при близком знакомстве с личностью Анненкова и его роли в Белом движении, в том числе и в эмиграции, в это очень уж сложно поверить. Есть и компромиссные версии, как, например, предположение подробно исследовавшего «Дело Анненкова» омского историка В.А. Шулдякова: Анненков попал в ловушку разведчиков ГПУ и был обманом или насильно вывезен в СССР, а здесь уже действительно сломался, написав это нужное Советам покаяние в обмен на приемлемое обращение с ним на Лубянке до самого конца его жизни. Поэтому, как предполагает Шулдяков, в заключении в Москве с Анненковым обходились подчеркнуто корректно и не подвергали его пыткам, а одно время вместо камеры внутренней тюрьмы на Лубянке даже держали втайне на конспиративной московской квартире под контролем чекиста Зюка.
В этой операции ГПУ была интересная деталь: поскольку суд состоялся и советская юстиция свой приговор бывшему «белому зверю» Анненкову вынесла, а признавать незаконную по любым международным нормам силовую акцию за пределами СССР не хотелось, то советские учебники и энциклопедии повторяли оригинальную версию. Анненков после 1920 года, по этой версии, был эмигрантом, а в 1926 году «оказался на территории СССР», здесь арестован, и советский суд воздал ему должное. Советские люди, сбитые с ног этой юридически безупречной версией (на территории СССР ведь он и вправду оказался, никакого обмана по форме не было), гадали: то ли случайно атаман забрел через границу, то ли с заданием эмигрантского центра заброшен нелегально и здесь попался. А правда оказалась прозаичнее, не по своей воле он здесь оказался, а был похищен и затащен в Советский Союз для суда, исход которого был предрешен заранее.
Эта двойственность сохраняется и сейчас в тех изданиях, где деятельность органов всей системы ЧК – КГБ принято в патриотических традициях оправдывать обстановкой «того времени» во всех случаях. В вышедшей уже в 2004 году «Энциклопедии секретных служб России», написанной как раз в такой традиции гордости за чекистскую историю, операция по вывозу в СССР Анненкова описана и вовсе так витиевато, что трудно понять ее смысл: «В приграничных районах органы ОГПУ продолжали борьбу с закордонными бандами. В 1926 году советским агентам удалось уговорить казачьего атамана Анненкова явиться с повинной в советскую военную миссию, где он обратился к белоэмигрантам с призывом возвращаться на Родину. В 1927 году по приговору суда Анненков был расстрелян».
Здесь в желании в очередной раз обелить органы ГПУ и скрыть факт пиратского похищения человека, никогда не имевшего даже советского гражданства, на территории сопредельного государства, авторы энциклопедии явно перегнули палку. Сейчас мы слишком хорошо знаем личность атамана Анненкова и его прошлые «заслуги» перед советской властью, чтобы поверить, что советские агенты его уговорили явиться добровольно. Знаем примерно и каким образом его затащили на советскую территорию, где заставили подписать это обращение к эмигрантам возвращаться в Советскую Россию. К тому же такая странная интерпретация «Энциклопедией секретных служб России» дела о похищении атамана Анненкова мало того что выглядит не слишком логичной (сначала «уговорили», а затем все равно расстреляли, а ведь при уговорах положено давать какие-то гарантии), так еще и защищаемые авторами органы ГПУ рисует в том же неприглядном свете. Ведь, по этой версии, уговорившие Анненкова чекисты коварно его обманули, да и «хорошая» агитация за возвращение эмигрантов получилась: сам обратившийся к ним с таким призывом человек на родине тут же расстрелян, тут и решившиеся на возвращение задумались бы и повернули обратно.
Ссылки же историков ЧК на какое-то право на подобные действия ввиду репутации Анненкова и его жестокости в годы Гражданской войны вряд ли можно считать состоятельными. Во-первых, ссылка на личность жертвы в таких операциях, противоречащих нормам международного права, не должна приниматься в качестве аргумента изначально. А во-вторых, при всех реальных или приписанных ему советской историей злодействах, при всех его «поездах смерти» Анненков не совершил ничего более ужасного, чем многие деятели ЧК, заманившей его в свои сети через несколько лет после окончания Гражданской войны. Как и Дутов, Семенов, Иванов-Ринов или Унгерн фон Штернберг, которых советская пропаганда считала главными головорезами в белом лагере, чем и оправдывала любые акции ЧК и ее наследников против этих людей.
В Европе в том же 1923 году операцией разведки ИНО ГПУ с мудреным названием «Дело № 39» (операция по разгрому в Европе центра украинской эмиграции сторонников Петлюры) заманен в Советский Союз для продолжения подпольной борьбы лидер украинских эмигрантов-самостийников Тютюнник, здесь он также арестован и расстрелян. Здесь едва ли не впервые разведка ГПУ опробовала свой в дальнейшем фирменный и вполне успешный метод «Треста», когда эмигрантам подсовывали созданную руками чекистов якобы антисоветскую организацию и от ее имени втягивали их в оперативные игры и заманивали для ареста в СССР. Юрко Тютюнник отправился через границу для встречи с представителями как раз такой легендированной ГПУ организации украинских националистов под названием «Высшая войсковая рада».
После рейда петлюровских отрядов Тютюнника в 1921 году через советско-польскую границу и обратно, известного в истории украинской эмиграции как «Зимний поход Тютюнника», он стал главой всей боевой организации петлюровцев в Европе и вступил в конфронтацию с самим Петлюрой, упрекая старого вождя националистов в нерешительности. При этом Тютюнник возглавлял в петлюровской эмиграции специально созданный для подпольной работы против СССР Партизанско-повстанческий штаб (ППШ), который при содействии польской Дефензивы расположился в польском городе Тарнув, а позднее перебрался во Львов. Там Тютюнник, все меньше советуясь с самим Петлюрой, налаживал связи с оставшимися на советской территории атаманами украинских банд, вел переговоры при содействии поляков с белым центром Савинкова и таким же повстанческим штабом «Зеленого дуба» белорусских националистов Адамовича (атаман Деркач). На этом желании Тютюнника стать новым вождем боевой украинской эмиграции и создать свое подполье на советской части Украины в ГПУ и сыграли.
Чекисты все сделали по классической модели таких своих акций. Сначала арестовали в СССР эмиссара Тютюнника из петлюровцев Заярного, затем заставили его направить Тютюннику заявление о создании мощной «Войсковой рады» под началом атамана Дорошенко в Украинской ССР и о подготовке ей восстания украинцев, а в июне 1923 года переплывшего тайно Днестр Тютюнника взяли на советском берегу. Здесь под видом лидеров «Рады» его встретили чекисты, их лидера играл лично Заковский, будущий заместитель наркома НКВД при Ежове. В СССР Тютюнника включили в тайные игры ГПУ с украинской эмиграцией, затем заставили писать покаянные письма о признании советской власти, но в 1929 году все равно расстреляли, как ставшего ненужным в оперативных схемах. Такие игры по «трестовской» модели сильно ударили по эмиграции украинских сепаратистов. Кроме фиктивной «Высшей войсковой рады», ГПУ создало «Черноморскую повстанческую группу» из своих агентов во главе с пойманным и перевербованным петлюровским атаманом Гамалией. Как и Тютюнник, на этот крючок попался и для связи с ней на территорию СССР прошел другой видный лидер петлюровцев Гуленко (Гулый), арестованный на конспиративной квартире ГПУ в Одессе.
Не признавало ГПУ до последних дней существования системы спецслужб Советского Союза и другие ликвидации своих политических противников за границей. В том же 1926 году в Париже прямо на улице некто Шварцбард застрелил главного украинского эмигранта Симона Петлюру, в войну возглавлявшего армию украинской сепаратистской Директории. Сам Шварцбард на суде заявил, что действовал в одиночку и убил Петлюру в отместку за еврейские погромы петлюровцев на Украине и гибель своих родственников. Большинство же исследователей ликвидацию Петлюры считают также акцией внешней разведки ГПУ, полагая ее организатором чекистского разведчика из ГПУ Володина. Сами деятели петлюровского движения УНР не сомневались в том, кто направлял руку убийцы их вождя. Они в отместку планировали тогда убить в зале суда самого Шварцбарда, а в советской Украине организовать покушение на главу Совнаркома Украинской ССР Чубаря – так об этом сообщали сводки ИНО ГПУ со ссылкой на агентуру в петлюровском эмигрантском центре.
Внутри петлюровской эмиграции, как и среди альтернативных ей украинских движений в эмиграции (УВО, ОУН или монархистов-гетманцев), уже с начала 20-х годов активно действовала внедренная агентура ГПУ. Одним из самых ценных агентов чекистов среди украинских эмигрантов был Дмитрий Бузько по кличке Профессор, до революции известный террорист из эсеров, бежавший с царской каторги в эмиграцию, но после ареста ЧК сломленный в 1919 году и завербованный в агенты. Бузько все 20-е годы работал агентом ГПУ в украинской диаспоре в Западной Европе, после отзыва в СССР стал писателем и проживал в Одессе, в 1937 году ликвидирован НКВД в разгар репрессий.
Кроме Европы, тайные силовые акции и ликвидации ГПУ в 20-х годах практиковало и в других регионах мира. Например, на территории Афганистана и Ирана, где укрылись крупные формирования выбитых из пределов СССР басмачей из узбеков, туркменов, таджиков. Здесь лидеры басмаческого движения создавали свои эмигрантские национальные союзы, как, например, «Фаал» в Афганистане или «Комитет счастья Бухары» в английском еще тогда Пешаваре, забрасывая через советскую границу своих эмиссаров и боевые отряды басмачей. В северных провинциях Афганистана прямо у границ СССР обосновался один из самых непримиримых и деятельных лидеров узбекского басмачества Ибрагим-бек, именно против него ГПУ провело точечную операцию на афганской территории. От имени завербованного ГПУ агента Ибрагим-беку назначили встречу недалеко от афганского города Мазари-Шариф, где в горном селении приехавшего с небольшой охраной лидера басмачей сотрудники ГПУ расстреляли на месте из засады, убив его вместе с охранниками в ходе короткой перестрелки.
В 1929 году ГПУ на Дальнем Востоке организована одна из самых кровавых вылазок среди операций против эмигрантов по ту сторону границы – так называемый «Трехреченский рейд». Отборная группа сотрудников ГПУ и поддерживавших их бойцов пограничных войск через границу ворвалась в принадлежавший Китаю район Трехречья (у трех притоков реки Аргунь, местные называют этот район Барга), перебив в нескольких селах более сотни поселившихся здесь казаков Семенова и членов их семей, поскольку из Барги ранее семеновцы тоже совершали вылазки на территорию СССР. При этом границу перешли нагло и в открытую, отойдя после бойни назад, а пытавшийся оказать слабое сопротивление пост китайской пограничной стражи был просто перебит, убито 6 китайских солдат. Командовал этим «Трехреченским рейдом» чекист Моисей Жуч из ГПУ, запомнившийся спасшимся тем, что посреди подожженных сел гарцевал в знаменитой кожаной чекистской куртке и революционных красных штанах, подобно герою культового советского кинофильма «Офицеры». Сейчас эту кровавую акцию ни в каких славящих ЧК – ГПУ энциклопедиях особо не поминают, предпочитая рассказывать только о белоэмигрантских вылазках в СССР. А тогда эмиграция после событий в Трехречье была в шоке, 16 октября 1929 года было объявлено по русской эмиграции днем траура по жертвам акции ГПУ в Трехречье, этот вопрос тогда обсуждался в Лиге Наций в Женеве.
Во Франции же с начала 20-х годов обосновался самый опасный тогда центр активной русской эмиграции, более других тревоживший Лубянку, – Российский общевоинский союз (РОВС). Это организация эмигрантов из Белого движения из бывших офицеров и рядовых армий Деникина, Врангеля, Миллера, Колчака. Еще в годы нахождения ушедшей в 1920 году из Крыма врангелевской армии в Турции барон Врангель преобразовал свое войско в этот союз, сохраняя боеготовность своих офицерских кадров на случай новой войны с Советской Россией.
Сам барон Врангель так и не стал жертвой спецоперации ГПУ, хотя такие планы на Лубянке несколько раз разрабатывались. Правда, его внезапную смерть в 1928 году в Бельгии от обострившейся болезни некоторые тоже считают результатом тайного отравления ГПУ, но доказательств этому нет, хотя дочь Врангеля и настаивала на том, что отца отравил ядом в пище завербованный ГПУ его ординарец. Члены же РОВС, особенно из числа главных руководителей и самых активных деятелей белоэмигрантского террора, несколько раз гибли от рук чекистов-разведчиков. Так, в 1925 году во французском Фонтенбло был тайно похищен и затем убит известный член РОВС Монкевиц, до революции 1917 года руководитель Военной разведки царской армии и в РОВС у Врангеля занимавшийся вопросами разведки. И после смерти Врангеля, когда РОВС возглавил его преемник генерал Кутепов, очень популярный в белой эмиграции и откровенный сторонник террора против Советского Союза, тайные акции советской разведки против этой организации усилились.
К середине 20-х годов активность советской разведки, особенно в странах Европы, заметно усилилась. Эти структуры ГПУ и РККА обросли мускулами и мышечным мясом разведки – резидентурами в большинстве европейских столиц и тайной агентурой из завербованных местных граждан. Силовые акции в иностранных государствах в связи с этим сразу усилились и стали еще изощреннее. Кроме непосредственно силовых ударов в виде похищений и ликвидаций своих противников, чекисты начали проводить и хитроумные комбинации по дискредитации лидеров антисоветской эмиграции, по компрометации их центров в глазах приютивших их правительств, по стравливанию различных движений антисоветской эмиграции между собой. Это уже значительно более сложная форма работы разведки, она с ростом профессионального мастерства чекистов и ростом их резидентур за границей шла на смену примитивному орудованию револьвером из арсенала «красного террора» времен Гражданской войны, перенесенного теперь и за границу.
Чистых белогвардейцев из РОВС натравливали на ультрарадикалов из «Братства русской правды» или на первых российских фашистов из партий Вонсяцкого, Родзаевского, Сахарова, Светозарова. Умеренных белогвардейцев кадетского склада – на монархистов из обосновавшегося в Париже «Высшего монархического совета» (ВМС) из сторонников уцелевших Романовых. Среди монархистов стравливали сторонников великого князя Николая из ВМС (возглавляемого известным черносотенцем Марковым) и сторонников великого князя Кирилла из Романовых, основавших свой штаб кирилловцев в германском Кобурге. Удалось в эмиграции найти даже очень экстравагантных неомонархистов, бывших противниками реставрации Романовых вообще и грезивших о некоей «советской монархии» на основе союза монархистов с большевиками и эсерами о возвращении идеи Февральской революции с дополнением ее конституционной монархией с новой династией. Эту сектантскую группу разведка ГПУ пыталась поддерживать и использовать против ВМС и кирилловцев. Сторонников единой России натравливали исподволь на центры национальных движений Украины или Грузии, на сепаратистов кавказских народов или сторонников независимого казачьего движения.
Оперативные методы воздействия на непримиримую к Советам часть российской эмиграции параллельно уговорам вернуться применялись тоже очень активно. В 1929 году чекист Крошко, известный в ГПУ под агентурной кличкой Кейт, организовал в Германии провокацию по всем законам жанра царской охранки эпохи Судейкина, представив германскому правительству и его спецслужбам обосновавшихся в их стране лидеров «Братства русской правды» уголовными преступниками, якобы пользующимися поддельными документами и желающими разжечь советско-германский конфликт. В результате немецкая тайная полиция арестовала временно лидера германского филиала «Братства» Орлова и еще ряд членов этой радикальной организации эмигрантов, деятельность этой партии в Германии операцией Крошко была парализована. Крошко для этой операции использовал заведомо поддельные документы о преступной деятельности германского филиала «Братства русской правды».
Когда-то насоливший еще ЧК проникновением в ее ряды с чужими документами в годы Гражданской войны, белый офицер Орлов и в эмиграции пытался обратить против ГПУ оружие чекистской провокации, при помощи перебежавшего на сторону эмигрантов разведчика ИНО ГПУ Якшина (Сумарокова) изготавливая подделки советских документов и пугая ими европейские спецслужбы. А чекистский агент Крошко завернул против «Братства русской правды» очередной виток контрпровокации. Орлова и беглого чекиста Якшина арестовали, как и тайную сотрудницу германской госбезопасности Дриммер, из-за романа с которой ранее немецкие спецслужбы и белоэмигранты Орлова перевербовали Якшина. Сам Крошко тоже был из белоэмигрантов, состоял в эсеровском центре Савинкова, а после перевербовки ГПУ стал доверенным агентом советской разведки в эмиграции с широким охватом: кроме «Братства русской правды» он работал в Германии по РОВС и по центру монархистов кирилловцев в Мюнхене. После ареста Орлова и его соратников над Крошко сгустились тучи подозрения в работе на Лубянку, его вскоре отозвали в Советский Союз, где он дожил до глубокой старости.
В операции по этому разоблачению перед немецкими властями белоэмигрантского центра Орлова задействовали и завербованного в начале 20-х годов разведкой ГПУ владельца частного сыскного агентства в Берлине Ковальчика, немецкого выходца из Польши. Через его частное агентство ГПУ подбрасывало нужную информацию германской политической полиции и задействовало детективов агентства Ковальчика в слежке за русскими эмигрантами. Вербовка ГПУ частного детектива и найм его агентства для оперативной работы на советскую разведку – это уникальный случай в истории спецслужб СССР. Это разведка Российской империи в начале ХХ века часто практиковала такой метод использования для работы на себя французских, английских, германских частных сыскных агентств и даже сама организовывала их под именем своих зарубежных агентов. Но разведка Советского Союза ни до, ни после работы с «Агентством пана Ковальчика» в Берлине в подобном не была замечена. Работа же с Ковальчиком продолжалась затем и в 30-х годах почти до начала Второй мировой войны.
В 1937 году, после одного из арестов Ковальчика немецким гестапо и выпуска его за недостатком улик, на Лубянке вдруг уверились в его перевербовке и перестали Ковальчику доверять. Советские связники активно стали приглашать его нелегально выехать в СССР, но частный детектив догадался, чем может закончиться там разбирательство по его делу, и ехать в Москву отказался. Тогда с Ковальчиком просто прервали отношения. Хотя после войны из германских архивов гестапо узнали, что Ковальчик не был двойным агентом и на берлинскую резидентуру ГПУ – НКВД работал честно.
В Болгарии после прихода к власти социалистического премьера Стамболийски, решившего наладить болгаро-советские связи, болгарские спецслужбы получили от правительства задание обмениваться информацией с коллегами из ГПУ, чем чекисты тут же воспользовались. Группа чекистов под началом Иванова организовала убийство в Болгарии в 1922 году активиста белой эмиграции Агеева, представив это как результат борьбы между различными течениями русских эмигрантов. Болгарской полиции безопасности ГПУ подбросило сфальсифицированные улики, обвиняющие в убийстве Агеева эмигрантский центр бывшего деникинского генерала Покровского. В результате болгарские «охранники», взяв в сопровождение союзников чекистов, совершили под предлогом обыска настоящий налет на штаб людей Покровского в городке Кюстендил, разгромив его и арестовав многих эмигрантов. Сам Покровский и его сторонники оказали при этом вооруженное сопротивление, в итоге герой Белого движения и командир конного корпуса Виктор Покровский был убит на месте возглавлявшим этот налет офицером болгарской тайной полиции Кюмиджиевым. Сам Кюмиджиев и несколько его «охранников» получили в этой перестрелке ранения, что привело затем к осуждению схваченных по ложному обвинению белоэмигрантов.
Крупный центр РОВС в Болгарии, самый деятельный и одним из первых под началом Покровского начавший заброску в СССР диверсантов, был разгромлен в результате такой на первый взгляд противоестественной совместной операции социалистического ГПУ и охранки царской Болгарии. С советской стороны, кроме резидента ГПУ в Болгарии Иванова, эту акцию возглавлял чекист Семен Фирин, в 30-х годах ставший одним из печально известных руководителей системы лагерей ГУЛАГ в НКВД, в 1937 году Фирина расстреляют при зачистке в НКВД людей из «команды Ягоды». Супруга Семена Фирина Софья Залесская в тех же 20-х годах тоже работала в Европе против эмигрантов, только как сотрудник военной разведки – Разведупра РККА. В 1922 году в Берлине ее удалось даже внедрить под видом кухарки в дом лидера ЦК партии эсеров в эмиграции Виктора Чернова, и полученные из эсеровского центра Залесской сведения использовали в том году на Московском процессе против партии эсеров. Позднее Залесская работала в резидентурах Разведупра в Германии и Румынии, ее как отличного оперативника отмечал начальник Разведупра Берзин. В 1937 году как жену «изобличенного изменника» Фирина и как человека тоже арестованного Берзина ее арестовал НКВД, и в августе 1937 года Залесская расстреляна.
В том же 1922 году представители РОВС в Болгарии прямо обвинили спецслужбы этой страны в тесной работе с ГПУ на ликвидацию колонии русских эмигрантов. Начальник контрразведки в РОВС генерал Кутепов открыто заявил, что в качестве агентов влияния советских спецслужб против белоэмигрантов действуют софийский градоначальник Трифанов и главный шеф полиции безопасности Мустанов. Доказать факт вербовки столичного мэра и главы тайной службы страны ГПУ ровсовцам не удалось, поэтому их лидеры Кутепов и Самохвалов были решением правительства депортированы из Болгарии. И главный штаб РОВС, поначалу обосновавшийся в Софии, с 1923 года эмигрантами перенесен в Париж. Советская спецслужба праздновала еще одну победу, а этой ее операции, правда заретушировав многие детали, посвящен советский фильм «Берега в тумане». Хотя уже в 1923 году этот роман советских и болгарских спецслужб закончился, переворот правых военных привел в премьерское кресло врага Советского Союза Цанкова.
Но и после свертывания взаимной работы с болгарскими спецслужбами и после сильного удара по подполью полиции при Цанкове ГПУ продолжало в Болгарии свои тайные акции диверсионного характера. Так, уже в 1938 году попытались убить в Софии известного писателя-эмигранта из России Ивана Солоневича, бежавшего в 1934 году из СССР пешком через финскую границу, бывшего рупором и идеологом белой эмиграции. За несколько лет Солоневич стал кумиром молодого поколения эмиграции, основал независимое от РОВС движение «Штабс-капитанов», а издаваемая им в Софии антисоветская газета «Голос России» особенно раздражала советскую разведку. ГПУ действовало в стиле настоящих террористов, прислав на дом к Солоневичу анонимную посылку с бомбой внутри, при попытке открыть ее погибли жена Солоневича и его секретарь Михайлов, сам писатель не пострадал только благодаря случаю, в момент взрыва он находился в соседней комнате. Не останавливались и перед покушениями на самих болгарских политиков, занимавших антисоветскую позицию, в основном руками местных подпольщиков и болгарских агентов Коминтерна.
Самой дерзкой акцией стало покушение на самого премьер-министра страны Цанкова 16 апреля 1925 года, когда руками болгарских агентов советской разведки была взорвана мощная бомба в одном из православных храмов Софии во время службы. Ненавистный Москве Цанков уцелел, но погибло 150 непричастных впрямую к его политике человек. Исполнители теракта в храме позднее найдены цанковской контрразведкой и уничтожены. Бомбу в Софийской церкви Святого Воскресения боевики из нелегальной группы компартии под началом Янкова заложили по приказу ИНО ГПУ и взорвали в момент отпевания ранее убитого левыми террористами болгарского генерала Георгиева, на котором предполагалось участие Цанкова и многих членов его правительства. Взрыв и ликвидация Цанкова должны были по плану ГПУ и «военки» болгарской БКП стать первыми звеньями в цепи нового левого восстания, для которого боевики Янкова усиленно завозили в Болгарию поставляемое из СССР оружие. Цанков остался жив, восстания не случилось, а сама БКП этим жестоким терактом в церкви была в православной стране здорово дискредитирована. Даже работавший с людьми Янкова в этом деле резидент советского Разведупра Нестерович ужаснулся содеянному собственными спецслужбами. Бывший царский офицер на службе Советов еще не успел прокалиться насквозь пламенной классовой ненавистью, он порвал с советской разведкой и бежал, пришлось его ГПУ отлавливать по Европе и тайно ликвидировать.
В ходе массовых облав цанковской полицией безопасности в Софии и в провинции арестованы и в ускоренном порядке расстреляны кроме самих исполнивших теракт в церкви боевиков и десятки других членов запрещенной Болгарской компартии. В их числе был расстрелян и главный организатор покушения на Цанкова по поручению разведки ГПУ Коста Янков, бывший офицер болгарской армии, возглавлявший нелегальную боевую организацию БКП и бывший в 1923 году одним из вожаков попытки коммунистического восстания в Болгарии. Во время той же массовой облавы охранки покончил с собой, не желая сдаваться в руки врага, и лидер ЦК БКП Иван Манев. При схожих обстоятельствах ранее застрелился при попытке его ареста и известный боевик нелегального крыла БКП Димитр Гичев. Так что неудачное покушение в Софии на Цанкова ГПУ стоило жизни не только совершенно непричастным к этим классовым битвам посетителям церкви, но и самым ценным кадрам компартии Болгарии.
Эта акция 16 апреля 1925 года в Софии очень показательна. Не тем, что ради попытки убить неприятельского политика угробили полторы сотни случайных людей, – такие мелочи, как знаменитые «щепки при рубке леса», чекистов не тревожили. И не тем, что взрыв организовали в Божьем храме, если уж у себя на родине в это время церкви громили сотнями, а священников гнали на погибель на Соловки. И не тем, что рядовые исполнители акции и их командиры из болгар погибли, а главные организаторы спокойно сидели на Лубянке, – это обычная история в таких тайных операциях. А тем, что так легко спецслужбы СССР пошли на попытку тайного убийства главы правительства чужой страны.
Дореволюционная разведка России лишь раз замечена в соучастии в дворцовом перевороте в Сербии 1903 года с последующим цареубийством там короля Александра Обреновича, да и то там всю грязную работу сделали местные террористы из «Черной руки», а российские разведчики никакой прямой команды на убийство королевской семьи не давали. Разведка СССР с первых лет своего существования так же легко перешла к тактике физической ликвидации зарубежных политиков и глав государств или правительств, как без колебаний начали уничтожать за границей собственных эмигрантов. Это главная особенность покушения на Цанкова, сколько раз еще в ХХ веке мир станет свидетелем таких силовых операций советских спецслужб за пределами СССР, а такие акции даже в мире спецслужб считаются самым верхом беззакония в действиях разведки, нарушением последних табу ее негласного кодекса.
Еще одна заметная особенность бросалась в глаза и тоже понемногу становилась фирменным почерком советских спецслужб – обвинять в провалах собственных сотрудников, многим из которых ошибки даже двадцатилетней давности припомнили в годы сталинских чисток в 1936–1939 годах. Так, бывший резидентом Разведупра в Германии Петр Скобелевский (Вольф) в 1923 году был главным связным этой спецслужбы со штабом готовящегося в Германии всеобщего восстания в КПГ. Скобелевский был одним из тех, кто резонно призывал Москву не форсировать восстание, честно сообщая о недостатках в его организации и о недостаточном количестве оружия у создаваемых военным аппаратом КПГ «рабочих сотен». Но в советских спецслужбах и Коминтерне в упоении грядущей победой выступление подстегивали, приказ на отмену выступления дали за день до него, а не получившие этого приказа лидеры КПГ в Гамбурге начали свое знаменитое выступление, закончившееся провалом и большой кровью.
В архивах ГПУ и Коминтерна осталось множество документов, в которых после провала Гамбургского восстания пытались найти виновных в собственных рядах, и во многом был обвинен офицер Разведупра Скобелевский. В частности, ему поставили в вину создание внутри КПГ под своим началом тайной террористической группы для ликвидации выявленных провокаторов и индивидуального террора против врагов КПГ, ее членов в 1924 году немцы судили по знаменитому делу «О Германской ЧК». Создание боевой группы Скобелевский не согласовал с Разведупром, да и сама террористическая тактика в преддверии массового восстания Коминтерном и спецслужбами СССР была тогда признана вредной и отвлекающей от генеральной линии. Скобелевского Разведупр решил в начале 1924 года отозвать из Германии, но в апреле 1924 года его арестовала здесь за эту самую группу «Германской ЧК» немецкая тайная полиция. В 1927 году разведчика обменяли на кого-то из немцев в СССР, но зачислили в неблагонадежные, а при первых же залпах Большого террора в 1937 году расстреляли. Возглавлявшего во время этих бурных событий 1923 года в Германии партийную разведку в КПГ и бывшего главной связью Скобелевского со штабом восстания Феликса Вольфа (настоящая фамилия Кребс) после поражения в Гамбурге советская разведка даже прятала в здании посольства СССР в Берлине. Затем Вольфа негласно вывезли в Советский Союз, а в бойню 1937 года обвинили в гамбургской неудаче вместе со Скобелевским и расстреляли.
В соседней с Германией Польше в 20-х годах советская разведка очень часто прибегала к диверсионным акциям против режима Пилсудского и собственными силами, и руками соратников из нелегальной польской компартии. Особенно до 1924 года, когда на востоке Польши ГПУ и Разведупр практически открыто курировали партизанские отряды коммунистов, когда такой отряд Ваупшаса из советских чекистов и их польских товарищей совершил дерзкий налет на городок Столбцы, отбив в местной тюрьме политзаключенных и разгромив местные полицейские участки.
В это же время под крышей советского дипломатического представительства в Варшаве сидел известный резидент ИНО ГПУ из чекистов-поляков Мечислав Логановский, когда-то лично Дзержинским еще привлеченный в ряды ЧК, хотя до революции был террористом польской националистической ППС. Логановский в начале 20-х годов организовал несколько терактов в самой Варшаве, включая разрушительный взрыв в Варшавской цитадели с десятками погибших поляков, сравнимый по жестокости с акцией в Софийском соборе. Работавший в посольстве СССР в Польше вместе с Логановским и ставший затем невозвращенцем советский дипломат Беседовский, сбежавший в Париже прямо через ограду советского посольства, писал в воспоминаниях, что Мечислав Логановский был одним из самых безжалостных среди встречаемых им многочисленных чекистов, «человеком твердой воли, железной выдержки и зверской жестокости, в чьих глазах человеческая жизнь не имела никакой ценности». Этот советский резидент, так закалившийся еще в безжалостном дореволюционном терроре польской ППС, вскоре после подрыва Варшавской цитадели был отозван в Москву, но и сменивший его на посту резидента в Польше еще один выходец из польских чекистов Казимир Кобецкий достаточно известен в советской разведке (там он часто проходит под фамилией Барановский, это один и тот же человек). В отличие от жестокого боевика Логановского он производил обманчивое впечатление тихого интеллигента в очках, а кровавым диверсиям и терактам предпочитал тонкую агентурную работу. В конце 30-х годов и мрачный фанатик Логановский, и интеллектуал-оперативник Кобецкий вместе расстреляны НКВД по делу о польском контрреволюционном заговоре среди чекистов.
После первых же таких громких акций в Европе и Азии против белой эмиграции и иностранных лидеров «антисоветского настроя» активность советской разведки была замечена, и с ней стали считаться. В кругу разведок тогдашних европейских держав к середине 20-х годов советская разведка уже имела репутацию достаточно сильной и умелой, а также безжалостной в плане методов и безразличной к международному праву.
Очень характерна в этом плане паника в парламенте Великобритании после обнародования знаменитого «Меморандума Зиновьева», где от имени этого лидера партии большевиков и Коминтерна предлагалось силами советской разведки организовать восстание индийских и пуштунских племен, покончив тем с властью Великобритании над Индией и Кашмиром. ГПУ и военная разведка РККА через свои сети Коминтерна, безусловно, работала и в этом важнейшем регионе, но все же никаких признаков уже подготовленного восстания в Северной Индии и Кашмире при их участии тогда выявлено не было. Шум был большой, именно тогда глава МИДа Великобритании Остин Чемберлен обратился к СССР с нотой протеста, обстоятельства которого сейчас в основном забылись, а фраза «Наш ответ Чемберлену» осталась крылатой до сих пор, тогда по советским городам ходили манифестации с лозунгами «Пролетарии последний раз предупреждают Чемберлена». Советский ответ в 1927 году Чемберлену действительно был шумным, нарком иностранных дел Литвинов послал ответную возмущенную ноту в Лондон о «происках и клевете» в типичном советском стиле, а пролетарский поэт Демьян Бедный на страницах советских газет ответил на английскую ноту еще более хлестко: «Мистеру Чемберлену – мед вместо хрену». Такой тогда в Стране Советов ценился политический юмор.
Уже вскоре стало известно, что английские парламентарии стали жертвой именно этой демонизации зарубежного монстра советской разведки и непроверенных сведений собственных разведчиков, поскольку это сотрудники МИ-6, английской внешней разведки, добыли «секретный меморандум Зиновьева». А передали эти документы английскому резиденту разведки в Латвии Николсону русские белоэмигранты. То ли они хотели тем самым еще больше рассорить Лондон с Москвой, то ли английские джеймсы бонды перестарались в желании выслужиться и получить повышение, то ли была ловкая игра по дезинформации – концов этой громкой тогда провокации так и не найдено.
По другой версии, в руки МИ-6 эти изготовленные фальшивки передали члены белоэмигрантского «Братства русской правды», когда глава филиала «Братства» в Германии Орлов наладил производство таких фальшивок с чекистскими печатями для устрашения Запада и обострения его отношений с СССР. Хотя пик скандала пришелся на 1924 год, когда английские разведчики тайно похитили багаж члена компартии Англии Макмануса, найдя в нем документы о подрывной работе ГПУ по исполнению «плана Зиновьева», включая поддержку антибританского движения в Индии и субсидирования самих английских коммунистов для антиправительственной деятельности. Полагают, что джентльмены из английской разведки выдали здесь за улики из чемодана Макмануса те самые изготовленные белоэмигрантами фальшивки, хотя не секрет, что ГПУ и Коминтерн в те годы действительно массово переправляли европейским компартиям деньги на подрывную деятельность и пропагандистскую литературу.
Эта фобия, часто раздуваемая на всякий случай белой эмиграцией в Европе, обострялась в моменты арестов настоящих агентов советской разведки и разоблачения свитых ими сетей, которые действительно впечатляли. Как это было в той же Франции в конце 20-х годов, когда впервые разоблачена мощная сеть французских агентов советской разведки из компартии и профсоюзов, несколько лет успешно действовавшая на французской земле, тогда же был арестован возглавлявший ее резидент советского Разведупра РККА во Франции Узданский. Или когда выяснилось, что разведчик ИНО ГПУ Григанович сумел внедриться в самое высшее руководство разведывательной службы Генштаба армии Литвы, а после разоблачения благополучно сумел скрыться и бежал назад в СССР. Сам герой этой истории Викентий Григанович, чекист и разведчик с большим стажем, в 1938 году в Советском Союзе расстрелян в чистки НКВД.
В той же Литве советская внешняя разведка добилась еще более внушительного успеха, завербовав белогвардейского генерала Клещинского, пошедшего на службу в армию независимой Литвы и дослужившегося там до поста начальника Генштаба. Автором вербовки Клещинского считают резидента ИНО ГПУ в Каунасе Лебединского. Уже после ухода в отставку с поста начальника Генштаба Клещинский продолжал поддерживать связь с советской разведкой. В 1927 году литовская тайная полиция Жвалгиба вычислила его и арестовала на собственной квартире в момент передачи сведений секретной информации его советскому связнику Соколову. По приговору литовского суда Клещинский был расстрелян, но его случай шокировал и руководство Литвы, и круги белой эмиграции.
Размах тайной работы в западноевропейских странах в 20-х годах был заметен и по такому громкому делу, как история с обществом «Аркос» в Великобритании. Когда после 1923 года Советский Союз начали признавать европейские державы, обмениваясь с ленинской Москвой посольствами, ГПУ и Разведупру стало заметно проще работать, и они тут же развернулись. Еще в 1921 году в Лондон приезжала советская делегация наркома внешней торговли Красина, в ее составе был сотрудник ЧК Клышко, который и стал крестным отцом советского торгового общества «Аркос», под крышей которого ГПУ и штаб Коминтерна очень быстро развернули шпионский центр на Британских островах. Когда в 1924 году британское правительство Макдональда признало СССР и установило с ним дипотношения, эта работа значительно расширилась.
В 1922–1927 годах шла эта бурная деятельность, когда чекистские и коминтерновские агенты вербовали в Англии осведомителей, строили козни против немногочисленного здесь отделения белоэмигрантского РОВС, подпитывали деньгами и информационными материалами Английскую компартию Гарри Поллита (на эти деньги английские коммунисты устроили уличные массовые беспорядки на 1 мая 1926 года), готовили диверсии на флотах западных государств руками сформированной в недрах «Аркоса» тайной «Интергруппы» моряков разных стран под контролем Коминтерна. Всю эту работу курировал из советского посольства резидент ИНО ГПУ в Лондоне Радомский, а в самом штабе «Аркоса» – чекист Степан Мельников, которого только в 1926 году отозвали в СССР после обострившегося у него психического заболевания вследствие тяжелой контузии на Гражданской войне.
Прикрыть «Аркос» английским спецслужбам удалось только в 1927 году, получив неопровержимые улики шпионской деятельности ГПУ под его прикрытием, тогда был произведен знаменитый «Налет на «Аркос» в мае 1927 года и на время разорваны отношения между Лондоном и Москвой. Этой победы добились спецслужбы Великобритании, разгром «Аркоса» стал финальной точкой в их операции против советской разведки, где британцам удалось переиграть ГПУ, завербовав в «Аркосе» часть советской агентуры в двойные агенты. Главными агентами-двойниками стали латыш Карл Корбс, завербованный Особым отделом Скотленд-Ярда (эта структура тогда наравне с МИ-5 занималась в Британии контрразведкой и госбезопасностью), и его соотечественник из Латвии Петр Мидлер. Затем в «Аркос» был внедрен двойной агент из русских Анатолий Тимохин, завербованный английской военной разведкой еще в 1918 году, во время оккупации британскими войсками Мурманска, а затем переданный на связь в контрразведку МИ-5. Именно через этих двойных агентов в «Аркосе» английская контрразведка сначала подсунула ГПУ дезинформацию о ложных шифрах и поддельных чертежах британских подводных лодок, а в мае 1927 года с их помощью устроила свой знаменитый налет на «Аркос», захватив там уличающие советскую разведку материалы о подрывной деятельности на территории Великобритании.
Разгром «Аркоса» с временным прекращением в Лондоне его деятельности и временным разрывом дипотношений с Лондоном повлек в ГПУ расследование этого дела и расправу с виновными. Завербованный английской Интеллидженс сервис агент Тимохин и после разгрома «Аркоса» в Ленинграде стал тайным сотрудником ГПУ, одновременно в качестве «крота» установив уже в СССР связь с английской разведкой, его выявили в ГПУ и арестовали в 1928 году. Тогда же за рубежом тайными операциями выкрали и доставили для следствия в СССР проваливших «Аркос» агентов-предателей Корбса и Мидлера. Они не горели желанием после разгрома «Аркоса» возвращаться в СССР, зная о подозрениях ГПУ против них, предпочтя остаться в странах Западной Европы, а их коллега и двойной агент в «Аркосе» Кирхенштайн вообще отбыл в США и избежал расправы со стороны чекистов.
Корбса спецгруппа ГПУ похитила в голландском Роттердаме, заманив на борт советского парохода «Онега» и тайно вывезя на нем в Ленинград, спрятав его в тайник в машинном отделении, в июле 1928 года. А в сентябре того же года и по той же схеме в немецком Гамбурге пригласили на борт советского судна «Герцен» и Петра Мидлера, работавшего там в советском представительстве «Совтрансфлота», захватив и доставив морем в Ленинград и его. В изоляторе Лениградского ГПУ Корбса, Мидлера и Тимохина сделали главными обвиняемыми этого известного «Дела № 569» об измене в «Аркосе» годом ранее. Всех их лично допрашивал начальник Ленинградского ГПУ Мессинг, а Корбса для допросов даже этапировали в Москву во внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубянке. По этому же делу арестовали еще несколько человек из «Аркоса» рангом поменьше, арестовали и родного брата Петра Мидлера Антона, кадрового чекиста из ГПУ и шифровальщика в былом «Аркосе», обвинив его в разглашении брату-изменнику тайной информации по службе.
Сейчас все материалы этого «Дела № 569» рассекречены и опубликованы писателем Игорем Лосевым в его книге «ОГПУ против Скотленд-Ярда» об этой запутанной истории вокруг «Аркоса». На следствии Корбс, Тимохин и братья Мидлер обоюдными обвинениями «утопили» друг друга, все они за измену советской разведке и делу мировой революции по постановлению Особого совещания ГПУ в итоге расстреляны. Так закончился скандал вокруг «Аркоса», второй раз после «плана Зиновьева» так всколыхнувший Англию и показавший масштаб проникновения советской разведки в страны Западной Европы. Главную нагрузку в деле тайных операций и диверсионной работы за пределами СССР в ИНО ГПУ несло особое подразделение, созданное специально для этого в 20-х годах и засекреченное так, что даже не многие чекисты знали о его существовании. Это знаменитый 5-й спецотдел ГПУ, или «Спецбюро № 5», как его официально именовали с 1928 года. Его возглавлял тогда чекист Яков Серебрянский, в ГПУ известный под ласковым именем Яша, хотя личность и работа этого человека никак не располагала к таким сентиментально-уменьшительным прозвищам. Это был опытный боевик из дореволюционной партии эсеров, совершивший еще до 1917 года ряд громких терактов и лично причастный к убийству начальника Минской тюрьмы. В 1921 году он в качестве эсера арестован советской властью, но затем амнистирован, вступил в партию большевиков и принят на работу в ЧК, где в 20-х годах и стал в ГПУ руководителем специального бюро по диверсиям и ликвидациям за границами Советского Союза. В дальнейшем извилистая судьба боевика и чекиста Серебрянского совершит еще не один поворот с арестами своими соратниками, помилованием, очередным арестом и смертью в тюрьме от инфаркта, но в 20-х годах он еще на коне, и его спецотдел обрастает в Европе легендами. Все главные специалисты по тайным акциям и ликвидациям советских спецслужб сталинского периода вышли из этого «отдела Яши», такие как Судоплатов, Зарубин, Эйтингон, Шпигельгласс, Перевозчиков, Сыркин, Григулевич, Зубов и другие.