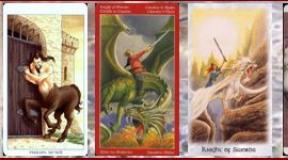Жизнь, смерть и смысл жизни человека. Смысл жизни и смысл смерти человека как философская проблема
В чем смысл жизни? Для чего существует человечество? Что вообще есть человек? Читайте о жизни и смерти, о посмертной загробной жизни, чудесах и свидетельствах Божией помощи
Смысл жизни и место смерти в жизни человека
В чем смысл жизни? - кажется, что этот вопрос задают редко и в шутку. Но каждый из нас в глубине души знает, что это совсем не так. В одиночестве мы нередко задумываемся, для чего же мы живем? Для чего существует человечество? Что вообще есть человек?
Многие знают о понятиях духа, души, тела, но не твердо представляют, какова связь между ними.Однако ответив на вопрос, что есть каждая из трех составляющих человека, мы понимаем, кто мы и как жить.
Также для каждого верующего религиозного человека важно понимание загробной, посмертной жизни души. Что будет, когда закончится жизнь в этом мире? Ответив на вопрос, что нас ждет после смерти, что такое душа, мы понимаем, что такое человек и как нужно жить, чтобы не погибнуть для вечности.

Человек в мире
Понятия духа, души и тела в разных религиях и философских течения отличаются. Однако существуют проверенные ответы на эти вопросы, данные святыми людьми, имевшими благодать и пребывающими сейчас рядом с Господом на Небесах. Православная Церковь имеет тысячелетний опыт понимания душ человеческих и их излечения от пороков и скверны.
Понятие разницы тела, души и духа сформулировано еще в древние времена, однако наиболее современное и ясное исследование представил святитель Феофан Затворник, живший в XIX веке. Именно его книгу «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться» рекомендуют всем православным христианам, которые хотят узнать больше о богоугождении и устройстве человека. Труды святителя Феофана по сей день изучаются многими философами и богословами, являясь к тому же величайшей духовной помощью для каждого православного христианина
Святитель Феофан особо отмечал, что личность человека является целостной. Наше тело также важно для Бога, будучи одним из трех основных составляющих человека: духа, тела и души. Они являют единство и взаимопроникновение. О теле человек должен заботиться, не пренебрегать своим здоровьем. В соответствии с толкованиями на Книгу Апокалипсис Иоанна Богослова, в конце времен люди возродятся в тех же телах, в том же внешнем образе. По Священному преданию, люди будут выглядеть как имеющие возраст Христа - 33 года.
Даже в современной православной литературе понятия души и духа часто смешиваются. Оба они - нематериальная сущность человека. Душа - некий двигатель жизни человека. С появлением души тело обретает жизнь, через душу мы познаем и понимаем окружающий мир, испытываем эмоции.
Если души нет - нет и жизни. Вопрос прихода и ухода души в мир сегодня толкуется Церковью так.
Душа появляется в теле ребенка, пока эмбриона (то есть ребенка в утробе), сразу после зачатия. Именно поэтому нельзя делать аборт, убийство не просто скопления клеток, а существующего уже крохотного тела, пока имеющего зародышевую форму, но имеющего уже и душу, и дух.
Душа уходит из тела человека в небесные обители. Здесь ученые говорят, что тело человека после смерти легчает на несколько грамм, поэтому идут споры, нет ли у души даже материальной природы.
Дух же представляет собой естество человека в высшей его степени, то, что называется «образ Божий». Дух направляет личность к Господу. Именно дух позволяет человеку в иерархии стать выше других живых созданий.
Душа создает, генерирует наши
- Мысли,
- Чувства,
- Эмоции.
Душа грешна, и собственно душа испытывает греховные наслаждения.Она существует в горизонтали этого мира, связывает человека ним и с областью вожделения. Дух же можно упрощенно назвать нашей совестью, ориентиром, означающим стремление к Господу. Тяга ко греху - это прерогатива души. Увы, душа сильнее духа у человека, который не стремиться к духовной жизни.

Вопрос о смысле жизни
Психологи утверждают, что существуют возрастные и структурные законы человеческой психики в отношении вопроса о смысле жизни. Известно, что на рубеже каждого десятилетия человеческой жизни все ставят перед собой этот вопрос с особой остротой. Однако он может быть ограничен лишь в определенном, достаточно узком, круге решений.
Эгоцентрический уровень смысла жизни. Человек чувствует себя как центр жизни общества, а все другие люди воспринимаются хорошими или плохими в зависимости от того, помогают они его желаниям или нет. Смерть воспринимается как конец существования в целом, окончание личного благополучия, а значит, стимул для еще большего получения удовольствий или достижения целей. Жизнь для эгоцентрика - увеличение числа личных достижений практически без оглядки на других людей. Смерть - уничтожение, ибо после смерти все цели становятся недостижимы, а достижения… обнуляются. Звучит странно, но каждый из нас в какой-то мере грешен эгоизмом, гордыней, желанием приумножить материальное, показаться перед людьми лучше, чем есть и обязательно похвастаться существующими успехами.
Группоцентрический уровень - для человека важны другие люди, точнее, та их группа, к которой человек себя причисляет. Соответственно, и отношение к людям определяется принадлежностью к общности. Смысл жизни такой личности оказывается заключен в жизни и статусе в группе. На первый взгляд, здесь стереотипно видится «золотая молодежь» или стиляги. Но так же вели себя и люди Страны Советов: в СССР смысл жизни официально заключался в построении лучшего будущего «для нашей страны»: «Забота у нас такая, работа у нас большая – жила бы страна родная, и нету других забот!» Ужас здесь в безразличии к судьбе других людей.
Гуманистический, просоциальный уровень. Здесь для личности любой индивидуум обладает в смысловом восприятии одинаковой ценностью. Здесь впервые появляется нравственность: ранее была лишь мораль (определенный кодекс, который, как известно, есть и у мафии). Но на уровне нравственного сознания начинает действовать золотое правило этики, оно же - одна из Заповедей Блаженства: поступай с другим так же, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой, по слову Христа. Отсюда и смысл жизни - он широкий и светлый, значимый, чем иные. Деятельность человека в таком восприятии принадлежит всему человечеству. Именно здесь зачастую останавливаются в своей философии даже величайшие умы.
Однако есть и более высокая ступень восприятия жизни - духовная или эсхатологическая. Такие люди, а это истинно верующие люди, знающие догматы и понимающие свою религию, - осознают себя как существо, имеющее дух, связанное с духовным миром. Верующие люди ценят жизнь других людей и ценят связь с Богом. Смерть для верующих - не конец личного бытия, а лишь переход от одного состояния жизни к другому. Только так появляется бесконечный смысл жизни.
Объективно проблема смысла жизни разрешается лишь в религиозном сознании.

Что делать, если жизнь бессмысленна?
Отсутствие смысла жизни - один из признаков депрессии, которая граничит с унынием. Однако зачастую люди понимают, что преодолеть депрессию самостоятельно не могут. Нужно идти к психологу и к священнику, хорошо пойти к православному специалисту. Нужно бороться и с собой, со своим состоянием, одновременно получая Божию поддержку в Таинствах Исповеди и Причастия.
Исповедь, несмотря на то, что многие православные люди исповедаются раз в неделю или две, то есть довольно часто, называют вторым крещением. Во время Крещения человек очищается от первородного греха благодатью Христа, Который принял Распятие ради избавления всех людей от грехов. А во время покаяния на Исповеди мы избавляемся от новых грехов, сделанных нами на протяжении жизненного пути.
Кажется, что невозможно каяться в том, что тебе плохо. Но при унынии мы каемся в том, что не надеемся на помощь Божию, забываем о Боге. Стоит только помолиться от души, исповедоваться и причаститься - тоска исчезнет.
Еще лучше проанализировать свою жизнь, понять ошибки и обиды, постараться отпустить их. А если не можете - помолитесь за обидчиков. Пусть Бог Сам управит их жизнь и вразумит их, а вам подаст радость и свободу от обид!
Во время Исповеди священник молится, чтобы Господь принял наше покаяние. Исповедью мы снимаем с себя все свои ошибки и просим, чтоб Господь нас, очищенных Его благодатью, порадовал, вразумил.
Преподобный Серафим Саровский, один из самый почитаемых святых Русской Православной Церкви, чудотворец так определил смысл жизни христианской: “Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого”.

Божья благодать и чудо жизни
Каждый понимает, что часто не в состоянии повлиять на обстоятельства: самостоятельно выбраться из бедности, изменить жизнь, найти вторую половинку - не может обрести жизненную цель. Именно поэтому во все времена в скорбях и бедах люди вызвали к Богу и убеждались в Его существовании и его милости. Церковь оставила нам многие молитвы, чтобы мы могли просить Бога и святых о милости проверенными за века словами.
В действительности многие люди даже стремятся ощутить некую энергию, силу, которой они могли бы управлять. Однако такая сила не от Бога. Темные силы играют на нашей гордости, если мы стремимся к неизведанным ощущениям духовных наслаждений, благодати.
Именно Божия благодать дается нам лишь через смирение, принятие воли Божией о нас, чтение молитв, исполнение заповедей Божиих, посещение церковных богослужений.
Не ищите сильных ощущений. Благодать Божия - это чудеса, которые совершаются ежедневно с нами. Удивительные возможности, важные встречи, маленькие радости - все это от Господа. Нужно благодарить Его за нашу жизнь. И чтобы помогать Ему управлять нашей жизнью, верно жить по заповедям Его - посетите храм и побеседует со священником, посетите занятия воскресной школы для взрослых, которая есть при каждом храме.
Путеводной звездой каждого человека должен стать закон Божий. Не стоит думать, что это запреты, подобные родительским. Заповеди Божии - это, скорее, название законов духовной жизни, которые подобны физическим: стоит шагнуть с крыши, и ваше физическое тело разобьется; стоит совершить грех прелюбодеяния, убийства - разобьется ваша душа. Православная Церковь - духовная лечебница, нравственная опора, проверенная веками. Увы, не для каждого человека сегодня это очевидно. В современном мире, с его многообразием мнений и возможностей человек часто теряет свои нравственные, духовные, мировоззренческие ориентиры. Сегодня очень легко потерять и самое себя.
Самое главное - помнить, что «сила Божия в немощи (слабости) совершается», как говорит апостол Павел в Послании к Коринфянам. Слабость человеческая выражается в том, что он отдает себя в руки Божии, становясь гибким, давая Богу действовать и помогая Ему человеческими силами, но не гордясь и надеясь на помощь Божию. Человек смиренный действует, но не ропщет перед трудностями, молится и ждет воли Божией о себе.

Что будет после смерти
После смерти от нас останется душа - некий двигатель жизни человека. С появлением души тело обретает жизнь, через душу мы познаем и понимаем окружающий мир, испытываем эмоции. Душа уходит из тела человека в небесные, нематериальные обители. Ученые говорят, что тело человека после смерти легчает на несколько грамм, поэтому идут споры, нет ли у души даже материальной природы.
Ангелы ближе всех к людям и пребывают на самом низу иерархии Небесных Сил. Они чаще всего являлись людям, обычно праведникам и святым, но бывало, что наказывали или вразумляли грешников. По словам Священного предания, Ангелы - личности, но природа их отличается от человеческой и животной. Они выше, совершеннее людей, хотя и у них есть ограничения. Еще до начала сотворения Земли Богом Ангелы имели свободную волю. Часть их вместе с Люцифером хотела встать выше Бога, возгордившись, другие Ангелы выбрали сторону добра. С тех пор ни светлые Ангелы, ни павшие ангелы (аггелы, бесы, дьяволы во главе с Люцифером, то есть сатаной) не меняют своей воли и делают, соответственно, только добрые и только злые дела.
Мы можем просить помощи у Ангела и после смерти. Ангел будет сопровождать душу человека в мытарствах. В первые же сутки человек проходит испытания, на которых темные духи, бесы, показывают человеку, какие грехи он совершил и в каких не раскаялся. Грехи можно смыть лишь при жизни искренним покаянием в Таинстве Исповеди.
Увидев свои грехи, человек не попадет сразу в рай или ад. О нем должно состояться временное Божие решение - где он будет пребывать до Страшного суда, и в это время ему могут помочь молитвы живых людей. Человек увидит Престол Божий и Господа во время этого решения.
По словам древних патериков, Ангел рассказал одному из древних святых - преподобному Макарию Александрийского о церковном поминовении умерших на третий день по смерти: “Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее Ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что славословие и приношение в церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжение двух дней позволяется душе, вместе с находящимися при ней Ангелами, ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучалась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело; и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий день же Тот, Кто воскрес из мертвых, повелевает, в подражание Его воскресению, вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих”.
Затем Ангел-Хранитель сопровождает человека, показывая ему райские обители до 9 дня после смерти. Потом человек путешествует по обителям ада до 40 дней и наконец остается в обители, которую отвел ему Господь.
По словам Христа, записанным евангелистами, однажды земной мир придет к концу. Наступит вечное Царство Божие - здесь души людей, искупленных Господом Иисусом Христом, соединяться со своими воскресшими и восстановленными телами.
Преподобный Иоанн Дамаскин рассказал о том, как это свершится: “Верим же и в воскресение мертвых. …Само тело, истлевающее и разрешающееся, оно само воскреснет нетленным. Ибо Тот, Кто в начале произвел его из праха земли, может снова воскресить его, после того, как оно опять, по изречению Творца, разрешилось и возвратилось назад в землю…Мы воскреснем, так как души опять соединятся с телами, делающимися бессмертными и совлекающими с себя тление, и явимся к страшному судейскому Христову седалищу; и диавол, и демоны его, и человек его, т. е. антихрист, и нечестивые люди, и грешники будут преданы в огнь вечный, не вещественный, каков огонь, находящийся у нас, но такой, о каком может знать Бог. А сотворившие благо, как солнце, воссияют вместе с Ангелами в жизни вечной, вместе с Господом нашим Иисусом Христом, всегда смотря на Него и будучи видимы Им, и наслаждаясь непрерывным проистекающим от Него веселием, прославляя Его со Отцем и Святым Духом в бесконечные веки веков. Аминь».
Каждый православный христианин должен понимать важность молитвы за умершего. Ведь ушедшие от нас родные и близкие уже не могут изменить свою загробную участь, и только мы, живые, можем им помочь молитвой! Традиционно подают милостыню нищим и подаяние в церковную кружку «на храм», мысленно молясь: «Упокой, Господи, душу усопшего раба (рабы) Твоего (Твоей)…»

Найти смысл жизни
Молитва - это общение с Господом, лучшим Врачом и Утешителем. Что невозможно человеку - преодолеть горе безболезненно, без вреда здоровью - то возможно Богу. Только Он может благодатью Своей помочь и вашему близкому усопшему, и вам обрести надежду и радость. Молитва поможет вам понять, что жизнь не только скоротечна и может завершиться внезапно, но что она имеет смысл в вечности. Нужно и самому готовить свою душу, ценить жизнь и близких людей, не творить зла и несправедливости.
Да хранит вас Бог и да просвещает Он вас!
Разговор со старшим преподавателем кафедры общей психологии Института управления, старшим научным сотрудником казанской лаборатории «Психология личности», кандидатом психологических наук А. Фоминым об отношении людей к смерти.
– Тема смерти очень противоречивая. С одной стороны, она остается табуированной – в приличном обществе неприлично говорить о смерти. С другой стороны, эта тема нередко становится первополосной в СМИ. Людей интересуют обстоятельства смерти известных личностей, разного рода трагедии.
– Подобное отношение к смерти сформировалось не сразу. Начиная с античности вплоть до раннего Средневековья не было четкого разделения между мертвыми и живыми. Захоронения делались в центре городов и деревень. Эти места не обходили, на них проводили общественные собрания, назначались свидания. Считалось, что умерший человек просто уснул до второго пришествия Христа. Значительно позже, в XII - XVIII веках, когда развивалось представление о божьем суде, мертвых начали хоронить в стороне от населенных пунктов и обносить кладбища внутри городов.
Однако и сейчас существуют культуры в странах «третьего мира», в которых смерть до сих пор отмечают как праздник. Для них это уход в лучший мир.
Наиболее табуированной в цивилизованных странах тема смерти стала в XX веке. Связано это со многими причинами, в числе которых и утрата религиозности. У тех, кто не разделял религиозного представления о существовании жизни после смерти, возникло ощущение неопределенности. К сожалению, в такой ситуации была бессильна помочь и официальная наука. Среди ученых эта тема долгое время тоже была под негласным запретом.
Поэтому тему смерти люди предпочитают не поднимать. Вообще же, страх смерти возникает с раннего детства и связан в основном с первыми впечатлениями от тяжелого ритуала похорон близких. А от всего страшного человек старается отстраниться. Но наряду со страхом, у людей существует и огромный интерес к теме смерти, связанный с неопределенностью этого явления. Поэтому сообщения о чужой смерти в СМИ – это притягательная информация о том, как это было у «других».
– Скажите, а каковы различия в отношении к смерти в разных странах?
– Я бы акцентировал различия не между странами, а между представителями разных религий. В христианстве считается, что земная жизнь – это приготовление к жизни божественной. В исламе земной жизни придается большее значение, она имеет большую ценность сама по себе. В брахманизме существуют представления о переселении душ, реинкарнации. В любом случае религиозный человек легче относится к смерти. Для него смерть – это встреча с Богом.
Есть такое мудрое изречение: «Cмерть придает порядок и смысл жизни». Эта фраза очень точно обозначает смысл смерти. Что было бы с человечеством, если бы люди жили несколько сот лет? Мир погрузился бы в хаос. В отпущенный срок – в среднем 70 лет – люди стараются исполнить свое предназначение в этом мире. Даже если за счет научных открытий удастся серьезно увеличить продолжительность жизни, человечество столкнется с проблемой психологической неготовности жить так долго. У нас некоторые люди уже к 50 годам абсолютно вымотаны психологически.
– Люди по-разному относятся к собственной смерти. Одни безумно ее боятся, другие утверждают, что она их не страшит.
– Американская исследовательница Кюблер-Росс изучала стадии принятия человеком и его родственниками известия о скорой смерти и пришла к выводу, что в этом процессе существует пять этапов. Первая стадия – это отрицание, «я не согласен, что это случится, врачи ошиблись». Вторая стадия – это гнев, «почему именно я, а не кто-то другой». Третья стадия – это стадия торга, когда человек начинает торговаться с Богом, врачами, медсестрами, «я обещаю, если останусь жить, сделать то-то и то-то». Четвертая стадия – депрессия. Пятая – это смирение, когда человек спокойно ожидает исхода. Некоторые же люди благодаря силе духа преодолевают смертельный недуг или во всяком случае проживают остаток жизни полноценно, ценя каждый день. В этом проявляется их личная зрелость. Таковы данные, касающиеся особенностей принятия людьми известия о скорой кончине.
Что касается отношения к смерти вообще, то недавно в нашем институте мы изучали отношение к смерти челнинцев разных возрастов. Опросили 120 человек разных возрастных групп, чтобы узнать, как люди представляют смерть и то, что с ними будет после нее. Выяснилось, что представители молодого поколения относятся к смерти гораздо более позитивно. Большинство из них считают, что смерть – это переход к существованию в другом, возможно более лучшем мире. Люди старшего поколения (45-60 лет) чаще отвечали, что смерть – это прекращение существования. У этого поколения, которое в основном росло в атеистических традициях, гораздо больше страхов, связанных со смертью.
– Отношение молодых к смерти немного настораживает. Такое отношение может означать, что они меньше ценят жизнь и легче могут прийти к решению расстаться с ней.
– В какой-то мере вы правы. Разумный страх перед смертью необходим. Этот страх удерживает людей от решения проблем посредством самоубийств и сохраняет ценность жизни. В то же время данные исследования говорят о том, что многие молодые люди избавлены от панического страха перед смертью, который просто мешает жить.
Можно вспомнить о книге Р. Моуди «Жизнь после смерти», которая вышла в 1975 году в США и потом многократно переиздавалась (в последнем издании эта книга называется «Жизнь после жизни»). Будучи медиком по образованию, Моуди изучил ощущения 150 людей, переживших клиническую смерть. Он пришел к выводу, что все эти люди испытывали в том состоянии примерно одинаковые ощущения: невероятной легкости, счастья, любви и добра. Эта работа перевернула отношение западного мира к смерти. Многие поверили, что жизнь после смерти не прекращается, а переходит в другую форму. Сейчас примерно в половине американских медицинских университетов преподается курс, посвященной психологии клинической смерти. К книге «Жизнь после смерти» можно относиться по-разному, но я бы порекомендовал прочитать ее каждому.
Зульфия СУЛТАНОВА
Только факт смерти ставит в глубине вопрос о смысле жизни. Жизнь в этом мире имеет смысл именно потому, что есть смерть. Смысл связан с концом. И если бы не было конца, т.е. если бы была дурная бесконечность жизни, то смысла в жизни не было бы. Смерть -предельный ужас и предельное зло - оказывается единственным выходом из дурного времени в вечность, и жизнь бессмертная и вечная оказывается достижимой лишь через смерть.
Платон учил, что философия есть не что иное, как приготовление к смерти. Но беда лишь в том, что философия сама по себе не знает, как нужно умереть и как победить смерть.
Жизнь благородна только потому, что в ней есть смерть, есть конец, свидетельствующий о том, что человек предназначен к другой, высшей жизни. В бесконечном времени смысл никогда не раскрывается, смысл лежит в вечности. Но между жизнью во времени и жизнью в вечности лежит бездна, через которую переход возможен только лишь путем смерти, путем ужаса разрыва. Гейдеггер говорил, что обыденность парализует тоску, связанную со смертью. Обыденность вызывает лишь низменный страх перед смертью, дрожание перед ней как перед источником бессмыслицы. Смерть есть не только бессмыслица жизни в этом мире, тленность ее, но и знак, идущий из глубины, указывающий на существование высшего смысла жизни.
Не низменный страх, но глубокая тоска и ужас, который вызывает в нас смерть, есть показатель того, что мы принадлежим не только поверхности, но и глубине, не только обыденности жизни во времени, но и вечности. Вечность же во времени не только притягивает, но и вызывает ужас и тоску. Смысл смерти заключается в том, что во времени невозможна вечность, что отсутствие конца во времени есть бессмыслица.
Но смерть есть явление жизни, она еще по эту сторону жизни, она есть реакция жизни на требование конца во времени со стороны жизни. Смерть есть явление, распространяющееся на всю жизнь. Жизнь есть непрерывное умирание, изживание конца во всем, постоянный суд вечности над временем. Жизнь есть постоянная борьба со смертью и частичное умирание человеческого тела и человеческой души.
Время и пространство смертоносны, они порождают разрывы, которые являются частичным переживанием смерти. Когда во времени умирают и исчезают человеческие чувства, то это есть переживание смерти. Когда в пространстве происходит расставание с человеком, с домом, с городом, с садом, с животным, сопровождающееся ощущением, что, может быть, никогда их больше не увидишь, то это есть переживание смерти. Смерть наступает для нас не только тогда, когда мы сами умираем, но и тогда уже, когда умирают наши близкие. Мы имеем в жизни опыт смерти, хотя и не окончательный. Стремление к вечности всего бытия есть сущность жизни. И вместе с тем вечность достигается лишь путем прохождения через смерть, и смерть есть участь всего живущего в этом мире, и, чем сложнее жизнь, чем выше уровень жизни, тем более ее подстерегает смерть.
Смерть, которая порождается природной закономерностью и к которой человек приговаривается биологическим процессом, есть самое индивидуально-личное в человеке. И она есть прежде всего прекращение сообщений с другими людьми и с жизнью космоса. Каждый человек должен пройти через трагедию смерти. Фрейд утверждает, что цель, к которой стремится всякая жизнь, есть смерть. Парадокс смерти в том, что смерть есть самое страшное зло, которое больше всего страшит человека, и через это зло раскрывается выход к вечной жизни, или один из выходов. Такими парадоксами наполнена наша жизнь. Плохая бесконечность жизни как раз и делала бы человека конечным существом.
Парадокс смерти имеет в мире не только этическое, но и эстетическое свое выражение. Смерть уродлива, и она есть предельное уродство, разложение, потеря лица, потеря всякого облика и лика, торжество низших элементов материального мира. И смерть прекрасна, она облагораживает последнего из смертньк и ставит его на одну высоту с самыми первыми, она побеждает уродство пошлости и обыденности. Смерть - это предельное зло, благороднее жизни в этом мире. Красота, прелесть прошлого связана с облагораживающим фактом смерти. Именно смерть очищает прошлое и кладет на него печать вечности. В смерти есть не только разложение, но и очищение. Испытания смерти не выдерживает ничто испортившееся, разложившееся и тленное. Это испытание выдерживает лишь вечное. Нравственный парадокс жизни и смерти выразим в этическом императиве: относись к живым, как к умирающим, к умершим относись, как к живым, т.е. помни всегда о смерти, как о тайне жизни, и в жизни, и в смерти утверждай всегда вечную жизнь.
Трагедию смерти можно сознать лишь при остром сознании личности. Трагедия смерти ощутима лишь потому, что личность переживается как бессмертная и вечная. Трагична лишь смерть бессмертного, вечного по своему значению и назначению. Смерть смертного, временного совсем не трагична. Трагична смерть личности в человеке, потому что личность есть вечная Божья идея, вечный Божий замысел о человеке. Личность не рождается от отца и матери, личность творится Богом. Человек в этом мире есть смертное существо. Но он сознает в себе образ и подобие Божье, личность, сознает себя принадлежащим не только к природному, но и к духовному миру. И потому человек почитает себя принадлежащим не только к природному, но и духовному миру. И потому человек почитает себя принадлежащим к вечности и стремится к вечности. Человек бессмертен и вечен, как духовное существо, принадлежащее к нетленному миру, но он есть духовное существо не естественно и фактически, он есть духовное существо, когда он осуществляет себя духовным существом, когда в нем побеждает дух и духовность, овладевает его природными элементами. Бессмертным оказывается вид, род, а не индивидуум. Бессмертие завоевывается личностью и есть борьба за личность. Фихте или Гегель не знают личного человеческого бессмертия. Человеческая личность и ее вечная судьба приносятся в жертву идее, ценности, мировому духу, мировому разуму и т.п.
Материализм, позитивизм и т.п. учения примиряются со смертью, узаконивают смерть и вместе с тем стараются забыть о ней, устраивая жизнь на могилах покойников. Отношение к смерти стоическое или буддийское бессильно перед ней и означает победу смерти, но оно благороднее родовых теорий, совершенно забывающих о смерти. Душевное, а не духовное отношение к смерти всегда печально и меланхолично, в нем всегда есть печаль воспоминания, не имеющего силы воскрешать. Только духовное отношение к смерти победно. Только христианство знает победу над смертью. Христианство учит не столько об естественном бессмертии, не предполагающем никакой борьбы, сколько о воскресении, предполагающем борьбу духовных, благодатных сил с силами смертоносными. Учение о воскрешении исходит из трагического факта смерти и означает победу над ним, чего нет ни в каких учениях о бессмертии, ни в орфизме, ни у Платона, ни в теософии. Только христианство прямо смотрит в глаза смерти, признает и трагизм смерти, и смысл смерти, и вместе с тем не примиряется со смертью и побеждает ее. Человек и смертен и бессмертен, он принадлежит и смертоносному времени и вечности, он и духовное существо, и существо природное. Смерть есть страшная трагедия, и смерть через смерть побеждается воскресением. Но смерть побеждается не природными, а сверхприродными силами.
6.2.2. Проблема бессмертия
Проблема бессмертия - основная, самая главная проблема человеческой жизни, и лишь по поверхности и легкомыслию человек об этом забывает. Иногда он хочет убедить себя, что забыл, не позволяет себе думать о том, что важнее всего. Все религии, начиная с зачаточных религиозных верований дикарей, строились в отношении к смерти. Человек есть существо, поставленное перед смертью в течение всей своей жизни, а не только в последний час жизни. Человек ведет двоякую борьбу: за жизнь и за бессмертие. Смерть есть явление еще внутри жизни, а не по ту сторону, самое потрясающее явление, пограничное с трансцендентным.
Сильное страдание всегда ставит вопрос о смерти и бессмертии. Но и всякое углубление жизни ставит все тот же вопрос. Было построено много типов религиозных и философских учений о победе над ужасом смерти и достижении реального или призрачного бессмертия: спиритуалистическое учение о бессмертии души; учение о перевоплощении душ; мистико-пантеистическое учение о слиянии с Божеством; идеалистическое учение о бессмертии идей и ценностей; христианское учение о воскресении целостного человека; притупление остроты проблемы смерти через слияние с коллективной жизнью на земле и через возможность земного счастья. Спиритуалистическое учение о бессмертии души сулит бессмертие лишь части человека, а не целостному человеку.
Учение о перевоплощении еще менее дает бессмертия целостному человеку, оно предполагает его разложение на отдельные элементы и ввержение человека в космический круговорот, оставляет его во власти времени. Человек может перейти в нечеловеческий род существования. Учение о слиянии с божеством не означает бессмертия личности, а лишь бессмертие безличных идей и ценностей. Идеалистическое учение также не означает бессмертия личности, а лишь бессмертие безличных идей и ценностей. Отворачивание от темы о бессмертии через обращенность к грядущему счастью человечества говорит о неразрешимости этой темы и о вражде к ее постановке. Только христианское учение о воскресении целостного человека отвечает на поставленный вопрос, но с ним связано много трудностей.
6.2.3. Бессмертие божественного в человеке
Человек бессмертен потому, что в нем есть божественное начало. Но бессмертно не только божественное в человеке, бессмертен весь состав человека, которым овладевает дух. Духовное начало и есть то начало в человеке, которое сопротивляется окончательной объективации человеческого существования, ведущей к смерти, окончательному погружению в смертоносный поток времени. Исключительная поглощенность своим личным бессмертием, как и своим собственным спасением, есть трансцендентный эгоизм. Идея личного бессмертия, выделенного из всеобщей эсхатологической перспективы, из мировой судьбы, противоречит любви. Но любовь есть главное духовное орудие в борьбе с царством смерти. Антиподы любовь и смерть между собой связаны. Любовь открывается с наибольшей силой, когда близка смерть. И любовь не может не победить смерть. Истинно любящий - есть победитель над смертью.
Бессмертие есть не человеческое и не божественное только дело, а дело богочеловеческое, дело свободы и дело благодати, дело, совершающееся снизу и сверху. Неточно думать, что человек есть по природе натурально бессмертное существо, и также неточно думать, что человек лишь сверху, от божественной силы получает свое бессмертие.
Ошибочность тут в разрыве богочеловеческой связи, в самоутверждении человека и в унижении человека, его человеческого. Мы сплошь и рядом мыслим о бессмертии, перенося на феноменальный мир то, что относимо только к нуменальному миру, и перенося на нуменальный мир то, что относимо лишь к феноменальному миру. Учение о бессмертии должно пройти через очищающую критику, через которую должно пройти и учение об откровении. Необходимо очищение от наивного антропоморфизма, космоморфизма и социоморфизма. Истинная перспектива бессмертия есть перспектива богочеловеческая, а не отвлеченно человеческая. И в проблеме бессмертия мы встречаемся с все той же диалектикой божественного и человеческого.
Древним свойственна была вера не в бессмертие человека и человеческого, а в бессмертие Бога и божественного. Душа связывается с дуновением, которое исходит от бога. Душа имеет тень. Очень широко было распространено верование, что нужно питать покойников, иначе могут быть с их стороны враждебные действия. На пути загробной жизни видели разного рода препятствия: в переходе опасных мест, во встрече с дикими зверями. Трудная и опасная борьба была и после смерти. Только в Египте были моральные требования для бессмертия. Египтяне первые признали человеческую душу бессмертной. Но сначала бессмертным признавался лишь один царь, потом привилегированный слой.
Душа, освобожденная от тела, бессмертна, потому что она божественна. Бессмертие зерна - источник веры в бессмертие у египтян.
Учение о перевоплощении, очень широко распространенное в древнем мире, связано с моральным возмещением, со злом, содеянным в прежних перевоплощениях. В зороастризме было уже воскресение во плоти. Очень характерно, что греки связывали надежды на бессмертие с душой, евреи же с Богом. Поэтому идея бессмертия души греческого происхождения. Спасение для евреев есть спасение всего народа. Вообще у пророков не было веры в личное бессмертие.
В эсхатологии есть различие перспективы мессианско - исторической и перспективы личного бессмертия. В христианство вошло и то, и другое. Древнееврейская религия учила о безнадежности Шеол после смерти и верила в награды лишь в этой жизни. Книга Иова обозначила глубокий кризис сознания. Лишь во II веке иудаизм принял верование о воздаянии в будущей жизни. Но евреи, в отличие от греков, пришли к верованию в воскресение с телом, а не в бессмертие души. Только Ессеи были спиритуалистического направления и видели в материи источник зла. Филон принадлежал к эллинистической мысли и имел не столько мессианские ожидания в отношении к народу, сколько индивидуальные ожидания в отношении к душе. Гностики думали, что духовный элемент в человеке должен отделиться от материи и соединиться с Богом, который не есть Творец мира. Но и иудаизм, и эллинизм кончили проблемой победы над смертью и завоеванием бессмертия.
Достигнуть бессмертия у греков - значит стать Богом. Бессмертие - есть проявление в человеке божественного начала, только оно и бессмертно. Бессмертны лишь герои, полубоги, а не обыкновенные люди. Есть раздельность человека и божественного рода, нет богочеловеческой связи. Вера в бессмертие души вышла из культа Диониса. Происходило смешение сверхчеловеческого и бесчеловеческого, исчезновение человеческого. Это в поздний час истории повторяется у Ницше. Человек смертей. Но бессмертие возможно, потому что в человеке есть божественное начало. В человеке есть титанический и дионисический элемент. Чисто греческая Аполлонова религия проникает в дионисическую стихию. Отсюда родился орфизм. Освобождение человека происходит не от самого человека, а от благодати спасающего Бога. Страдающий Бог своей смертью и воскресением дает человеку бессмертие. Гераклит учит, что душа есть огонь. В человеке есть Бог. Индивидуального бессмертия нет, есть лишь универсальный огонь. Пифагор признавал бессмертие души, но связывал с перевоплощением. У Анаксагора бессмертен дух, а не душа. Бессмертно общее, а не индивидуальное. Греческой трагедии чужда была идея потусторонности. Народной греческой вере чужда была идея бессмертия души по ее природе. Эта идея вынашивалась в теологии и философии. Искание бессмертия связано с мистериями.
Извне душа зависит от тела, а тело зависит от объектного физического мира. Человек превращен в одну из вещей мира. Биологически смерть происходит от разложения сложного состав организма. Клетка же бессмертна, потому что она проста. Вейсман думал, что клетка оплодотворенная виртуально бессмертна. Платон защищал возможность бессмертия на том основании, что душа проста. Это стало классическим аргументом, который носит натуралистический характер. Физическая энергия человеческого организма не погибает, а лишь трансформируется, рассеивается по миру. Возникает вопрос: что же делается после смерти с психической энергией? Человеческий организм имеет множественный состав, он колониален и потому легко разлагается. Личность есть единство и неизменность в постоянных изменениях множественного состава человека. Духовное начало и есть то, что поддерживает это единство и неизменность.
Но парадокс в том, что самое духовное начало требует смерти, ибо бесконечные стремления человека не осуществимы в пределах этого феноменального мира. Смерть царит лишь в мире феноменов, подчиненных космическому и историческому времени. В экзистенциальном времени она означает лишь опыт, лишь прохождение через испытание. Смерть есть судьба человека, прохождение самый иррациональный и самый потрясающий опыт.
Духовный смысл смерти иной, чем смысл биологический. В природе нет ничто, небытия, есть лишь изменение, разложение и сложение, развитие. Ужас ничто, бездна небытия существует лишь в отношении к духовному миру. В перспективе внутреннего существования никто, в сущности, не признает возможности окончательного исчезновения своего "я", того, что отвоевано как личность. Бердяев приводит в отношении этого рассуждения следующее: "Если нет для меня ничего после смерти, то я после смерти узнаю об этом. Если я умру и дальше не будет для меня никакой жизни, я исчезну окончательно, то и ничего не будет, ибо я был единственным доказательством существования мира".
Человеческая личность реальнее всего мира, она есть ноумен против феноменов, она в ядре своем принадлежит вечности. Но этого не видно извне, видно лишь изнутри. Человеческая душа ограничена телом, зависит от природной необходимости, но она внутренне бесконечна. Жизнь от рождения до смерти есть лишь маленький отрезок вечной судьбы. Человек ищет личного бессмертия, не бессмертия в объекте, а бессмертия в субъекте. Очень важно сознать, что только вечное реально. Все невечное, переходящее не имеет подлинной реальности. Ницше говорит, что для радости, счастья мгновения нужна была вечность и все оправдано.
6.2.4. Бессмертие личности
Бессмертие в родовой жизни, в детях и внуках, как и бессмертие в нации, в государстве, в социальном коллективе, ничего общего не имеет с бессмертием человека. Очень сложно и таинственно отношение между личностью и полом. Пол есть безличное, родовое в человеке, и этим отличается от эроса, который носит личный характер. С одной стороны, половая энергия есть помеха в борьбе за личность и спиритуализацию, она раздавливает человека своей натуральной безликостью, а с другой стороны, она может переключаться в творческую энергию, и творческая энергия требует, чтобы человек не был бесполым существом. Но настоящее преображение и просветление человека требует победы над полом, который есть знак падшести человека. С преодолением пола связано и изменение человеческого сознания. Бессмертие связано с состоянием сознания. Только целостное сознание, не раздвоенное, не разлагающееся на элементы и не слагающееся из элементов, ведет к бессмертию. Бессмертие в человеке связано также с памятью. Бессмертие есть просветленная память. Самое же страшное в жизни есть переживание безвозвратности, непоправимости, абсолютной утери.
Человек стремится к целостному бессмертию, к бессмертию человека, а не бессмертию сверхчеловека, интеллекта, идеального в себе начала, к бессмертию личного, а не безлично-общего. Проблему смерти связывают также с проблемой сна. Сновидение, говорит Фехнер, есть потеря умственного синтеза. Лишь освобождение сознания от исключительной власти феноменального мира раскрывает перспективу бессмертия.
Кошмарны перспективы бесконечных перевоплощений, перспективы совершенной потери личности в безликом Божестве и более всего перспектива возможности вечных адских мук. И если поверить в возможность бесконечного существования в условиях нашей жизни, которая часто напоминает ад, то это также было бы кошмаром, и вызывало бы желание смерти. У индусов перевоплощение было пессимистическим верованием. Буддизм, прежде всего, учит пути освобождения от мук перевоплощения. Верование в перевоплощение безблагодатное, и не дает освобождения от кармы. В нем безвыходность, нет выхода времени в вечность. Кроме того, учение о перевоплощении оправдывает социальную несправедливость, кастовый строй. Ауробиндо говорит, что тот, кто поддается печали и боли, кто раб ощущений, кто занят эфемерными предметами, не знает бессмертия.
Л. Толстой признает личную жизнь ложной жизнью, и личность не может наследовать бессмертия. Смерти нет, когда преодолевается личная жизнь. Учение Ницше о вечном возвращении есть античная греческая идея, которая знает лишь космическое время и целиком отдает человека во власть космического круговорота. Это кошмар того же типа, что идея бесконечного перевоплощения.
Наиболее персоналистический и человеческий, человечный характер носит учение Н. Федорова о воскрешении. Он требует возвращения жизни всем умершим предкам, не соглашается, чтобы кто-либо из умерших был рассматриваем как средство для грядущего, для торжества каких-либо безличных объектных начал. И речь идет о воскрешении целостного человека. Это не должно быть пассивным ожиданием воскресения мертвых, а активным участием, т.е. воскрешением.
Кошмарная идея ада связана была со смешением вечности и бесконечности. Но совершенно нелепа идея вечного ада. Ад есть не вечность, никакой вечности нет, кроме вечности божественной. Ад есть плохая бесконечность, невозможность выйти из времени в вечность. Это есть кошмарный призрак, порожденный объективацией человеческого существования, погруженного во время нашего зона. Если бы существовал вечный ад, это было бы окончательной неудачей и поражением Бога, осуждением миротворения, как дьявольской комедии.
Тема бессмертия человека заняла свое место в материалистическом мировоззрении. Материализм, всегда стремившийся понять мир без каких-либо субъективистских в него привнесений, с таких позиций развивал и данную тему. Однако материалисты античности исповедовали не столько стихийную диалектику, сколько механицизм, особенно в форме атомизма.
Идеалистическая система доказательств посмертного существования личности включает в себя немало и рациональных доводов. Например, Сократ говорил, что подобно тому, как сон противоположен бодрствованию и переходы между ними суть пробуждение и засыпание, противоположностью жизни является смерть, а переходом между ними - умирание и оживление. Поскольку же природа не должна хромать на одну ногу, умирание надо дополнить оживлением. И Сократ заключает; "Поистине существуют и оживление, и возникновение живых из мертвых. Существуют и души умерших, и добрые между ними испытывают лучшую долю, а дурные - худшую". Сократ также верит и в переселение душ.
Китайский философ Ян Чжу (ок.440 - 360 до н.э.) говорил, что смерть равняет всех: "При жизни существуют различия - это различия между умными и глупыми, знатными и низкими. В смерти существует тождество - это тождество смрада и разложения, исчезновения и уничтожения... Умирают и десятилетний, и столетний; умирают и добродетельный, и мудрый; умирают и злой, и глупый".
Ян Чжу категорически отрицал возможность личного бессмертия: "Согласно законам природы, нет ничего, что не умирало бы. Долгая жизнь человеку ни к чему. Если человек раз уже о чем-то слышал и, если он уже прошел через все это, то и сто лет покажутся ему достаточным сроком, чтобы все ему крайне надоело: ни тем более ли горькой показалась бы ему долгая жизнь?". Если за свою долгую жизнь человек не осуществил своего назначения, она не будет достойной и правильной, проживи он хоть 10000 лет. Но Ян Чжу решительно против преждевременного пресечения жизни: "Раз уже человек живет, то он должен принимать жизнь легко, предоставив ее естественному течению и исполнять до конца ее требования, чтобы спокойно ожидать прихода смерти. Когда же придет смерть, то и к ней следует отнестись легко, предоставив ее естественному течению, и принять до конца то, что она принесет, чтобы оставить свободу исчезновению. Зачем в страхе медлить или торопиться в этом промежутке между рождением и смертью? ".
Согласно учению черваков (древнеиндийская школа философии), существование мира обусловлено самопроизвольными комбинациями материальных элементов, и потому нет необходимости допускать бытие бога - творца. Можно обойтись без веры в бессмертие души. То, что люди называют душой, на самом деле есть обладающее сознанием живое тело. Существование души вне тела недоказуемо, поэтому и бессмертие ее доказать нельзя. После смерти организм снова разлагается на первоначальные элементы, соответствующей комбинацией которых он был. Человек в реальном мире испытывает и наслаждения, и страдания. Устранить последние полностью нельзя, однако их можно свести к минимуму, а первые, наоборот, к максимуму. Религиозные же понятия о добродетели и пороке - выдумка авторов священных книг.
Гераклит понимал смерть как элемент диалектики мирового процесса: "Огонь живет земли смертью, и воздух живет огня смертью; вода живет воздуха смертью, земля - воды смертью. Огня смерть - воздуха рождение, и воздуха смерть - воды рожденье. Из смерти земли рождается вода. Из смерти воды рождается воздух, из смерти воздуха - огонь, и наоборот". В этот круговорот он включает и душу, которая ему представляется материальной, одним из переходных состояний огня. Смерть и бессмертие он рассматривал как единство противоположностей: "Бессмертные - смертны, смертные - бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают".
С. А. Поварницын
СМЫСЛ ЖИЗНИ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
Работа представлена кафедрой философии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Научный руководитель - доктор философских наук, профессор Т. В. Науменко
Восприятие смерти является одной из вечных проблем философии. А одной из ключевых составляющих этой проблемы является вопрос о том, как влияет восприятие смерти, сама ее идея на жизнь людей, как трансформирует сознание и мир человека. Принято считать, что постоянно присутствующая на периферии сознания мысль о смерти действует на человека положительно, делает его жизнь более осмысленной, дает возможность радоваться ей. В статье мы стараемся внимательнее взглянуть на этот феномен, разобраться в его причинах и понять: на самом ли деле так велика роль мыслей о смерти.
Ключевые слова: смерть, философия смерти, экзистенциализм, страх смерти, смысл жизни.
MEANING OF LIFE IN THE FACE OF DEATH
Perception of death is one of philosophy"s eternal problems. One of its key components is a question how the perception of death, the very idea of it change people"s lives, how it transforms man"s consciousness and the world in general. A thought about death constantly present at the edge of consciousness is considered to have a positive effect on a human, making his/her life more meaningful and giving the ability to enjoy it. The author of the article tries to examine closely this phenomenon, to identify its causes and to understand if a thought about death actually plays such an important role.
Key words: death, philosophy of death, existentialism, fear of death, meaning of life.
Одним из основных вопросов, к обсуж- в контексте размышлений о восприятия дению которого вновь и вновь возвращаются смерти, является вопрос о том, обладала ли
бы жизнь смыслом, если бы она была бесконечной. Г. Л. Тульчинский считает, что «сама мысль об индивидуальном бессмертии человека просто несовместима с идеей смысла жизни... Поступки бессмертного существа, имеющего "достаточное время" в будущем (да и имевшего его в прошлом) для своего совершенствования, не могут подпадать под оценки с позиций добра, гуманности и т. д. Его существование лишено ценностей, идеалов, ответственности, оно внеморально» . К противоположному мнению склонялся И. Ялом , отмечавший, что, возможно, если бы жизнь была бесконечной, она все равно имела бы смысл, каждый момент этой жизни был бы насыщен смыслом, можно было бы ценить и осмысливать то, что есть, то, что происходит здесь и сейчас. Косвенно поддерживают точку зрения Ялома эмпирические данные работы с тестом смысложиз-ненных ориентаций .
Принято считать, что столкновение с опытом смерти может стать тем толчком, который влияет на жизнь до смерти, перестраивает взгляды человека на существование. Опыт близкой смерти, непосредственного ощущения близости границы, нашел многообразное преломление в литературе и кино, в сюжетах о том, как меняется жизнь человека от осознания того, что ему отмерено совсем немного. Какие же есть подходы к пониманию этого явления?
Говоря об этом феномене, можно было бы в качестве аргумента указывать на то, что людям, пережившим близость смерти, свойственно бывает вдруг как бы с особенной остротой ощущать жизнь. Человек, стоявший на пороге гибели, но в итоге ее избежавший, после этого начинает ценить каждую отпущенную ему минуту, по крайней мере, на какое-то время.
Существует ряд исследований на тему изменения восприятия жизни перед угрозой смерти (см., например: ). И хотя они и не демонстрируют прямого роста осмысленности жизни, все-таки отмечаются некоторые изменения, которые можно было бы принять в качестве такового.
Размышляя о различных аспектах восприятия смерти, американский психотера-
певт Ирвин Ялом пишет: «В 1926 году Мартин Хайдеггер изучал вопрос о том, от чего идея смерти уберегает человека, и у него состоялся важный инсайт: сознание предстоящей личной смерти побуждает нас к переходу на более высокий модус существования. Хайдеггер считал, что имеются два фундаментальных модуса существования в мире: 1) состояние забвения бытия, 2) состояние со-знавания бытия» . Хайдеггер различал два способа бытия: в одном человек живет как бы рефлекторно, воспроизводит полученные извне модели поведения и не склонен рефлексировать и ощущать собственное существование, а в другом, соответственно, склонен. Второй модус Хайдеггер считает «аутентичным» модусом бытия, более высокой ступенью развития личности. Какое отношение ко всему этому имеет смерть? Ирвин Ялом отвечает: «Хайдеггер отдавал себе отчет, что просто благодаря раздумьям, стойкости и "скрежету зубовному" не перейти из состояния забвения бытия в более просветленное и беспокойное состояние сознавания бытия. Нужны какие-то неотвратимые и непоправимые обстоятельства, определенный "экстремальный" опыт, который "вытряхивает", "вырывает" человека из повседневного модуса существования в состояние сознава-ния бытия. В качестве такого опыта (Ясперс имел в виду то же самое, говоря о "пограничных" или "предельных" состояниях) смерть превосходит все остальное: смерть есть условие, дающее нам возможность жить аутентичной жизнью» .
У нас есть ряд возражений против такой абсолютизации роли смерти. Так, если мы примем идею Ясперса о «пограничных» состояниях, то нам кажется верным не сводить эти состояния только лишь к близости смерти. Нам кажется, что подобным состоянием можно было бы так же назвать, например, состояние влюбленности, при котором резкий эмоциональный всплеск заставляет человека с необычайной силой ощутить жизнь. Влюбленный человек вдруг начинает замечать пение птиц, наслаждаться каждым глотком воздуха и т. д. Сходный эффект может
иметь так же освобождение из тюрьмы, выздоровление от сильной болезни или какое-то важное достижение. Этот эффект кажется нам похожим на то, как человек с необычайной силой ощущает вкус привычных блюд, если он провел некоторое время в состоянии сильного голода. Таким образом, мы считаем возможным признать, что мощные переживания (причем, не только негативные!) способны актуализировать жажду жизни.
Но, во-первых, было бы ошибкой полагать близость смерти единственным таким переживанием, хотя она и является одним из сильнейших возможных способов выйти из неосознанного бытия. А во-вторых, мы не вполне согласны с Яломом, когда он, цитируя Хайдеггера, заявляет, что переход из одного модуса в другой невозможен без потрясений. Сложность здесь вызывает хотя бы само определение потрясений, потому как мы допускаем, что это будет настолько субъективным параметром, что нет смысла основывать на этом какую-то общую теорию. Для кого-то потрясением будет близость смерти, а для кого-то, возможно, потеря работы, или физическая травма, или просто человек вдруг на секунду поднимет голову и посмотрит на облака.
Кардиореаниматолог Алексей Самохин всегда интересовался вопросами, связанными со смертью и ее восприятием людьми. Во время своей практики в одной из больниц Москвы он собирал своего рода коллекцию последних слов, которые пациенты произносили перед смертью . И, вопреки ожиданиям экзистенциалистов, он обнаружил, что люди в последнем приближении к Танатосу не становятся вдруг образцами духовности, а заботят их вещи достаточно банальные и местами даже низкие, как например в случае с человеком, чье сердце начало отказывать ему из-за того, что он, решившись отомстить жене за измену, задался целью переспать с сотней женщин, и единственное, о чем он сожалел перед смертью - что он не успел выполнить поставленную задачу.
Мы полагаем, что жизнь каждого человека изобилует такими событиями, которые
могли бы «пробудить» его от сна неосознанного существования. И наряду с тем, как можно наверняка найти примеры довольно незначительных, казалось бы, событий, приводящих кого-то к этой внутренней революции, точно так же мы считаем возможным предположить, что есть примеры людей, которых близость к смерти не смогла сподвиг-нуть к подобному пробуждению.
И если мы примем возможность обоих этих вариантов, то нам не останется ничего другого, как признать, что «предельные» переживания могут являться не более чем помощниками на пути человека к осознанному, ответственному, прочувствованному бытию, но никто не освободит его от необходимости самому проходить этот путь.
Итак, в рассуждениях о смерти можно встретить такую точку зрения: значимость смерти в том, что только перед ее лицом человек получает возможность обрести смысл жизни, через близость смерти, и только через нее, актуализируется тяга к жизни. Подобная позиция, несмотря на ее распространенность, кажется нам ошибочной.
Так, известный русский биолог И. И. Мечников, размышлявший о возможности «воспитания инстинкта естественной смерти», писал о Л. Н. Толстом: «Когда Толстой, терзаемый невозможностью решить эту задачу и преследуемый страхом смерти, спросил себя, не может ли семейная любовь успокоить его душу, он тотчас увидел, что это - напрасная надежда. К чему, спрашивал он себя, воспитывать детей, которые вскоре очутятся в таком же критическом состоянии, как и их отец? Зачем же им жить? Зачем мне любить их, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, всякий шаг ведет их к познанию этой истины. А истина - смерть» (цит. по: ).
На эту тему Ясперс пишет: «В своей пограничной ситуации экзистенция отчаивается в том, что ее существование и существование вообще имеет смысл и чего-то стоит. Она говорит себе: все преходяще; что значит радость жизни, если все гибнет!» .
Таким образом, нам кажется, что было бы неверно абсолютизировать роль смерти. Возможно, некоторые склонны преувеличивать универсальность ее влияния на восприятие жизни. Впрочем, эта проблематика легко снимается более мягкими определениями -стоит лишь признать, что смерть - это просто один из факторов, могущих оказать влияние на восприятие жизни. Но даже вне зависимости от того, принимаем мы аргументы Хай-деггера как стопроцентно убедительные или нет, перед нами встает вопрос - в чем же глубинная природа этого механизма? Почему близость смерти может оказывать столь сильное действие на людей?
Попробуем разобраться, чем может быть вызвана подобная реакция на близость смерти. Итак, у людей начинает структурироваться мировоззрение в духе известного закона Клапареда: осознание возникает, когда мы наталкиваемся на препятствие . Соответственно, осознание, осмысление жизни в целом также катализируют ситуации, заставляющие нас осознавать, что жизни что-то угрожает, может ее в любой момент прервать. По нашему мнению, в основе этого лежит тот же психологический феномен, который стал основой для старой русской поговорки «что имеем - не храним, потерявши - плачем». И действительно, не только в случае со смертью можно встретить такую модель восприятия. Ничуть не реже это можно наблюдать в отношениях между мужчиной и женщиной, чаще всего - уже устоявшихся, когда страсть между партнерами давно остыла, и даже влечения как такового почти не осталось, но они продолжают быть вместе по привычке или из страха остаться в одиночестве. В таких ситуациях появление кого-то третьего, угрозы для казалось бы не слишком-то и необходимого союза, часто вдруг стимулирует вспышку чувств в партнере, который осознает возможность утраты. Он начинает гораздо больше усилий прикладывать для сохранения союза, гораздо значимее видится ему присутствие в жизни своей второй половины.
Что лежит в основе этих резких изменений восприятия? По нашему мнению, можно было бы выделить несколько возможных причины. Одна, достаточно неприятная, будет заключаться в действии простой человеческой жадности, того, что принято называть поведением «собаки на сене», когда действительно важным является не сохранение союза, а предотвращение потери. Собственнический инстинкт хватать то, что убегает от тебя, может создать иллюзию вспышки любви, будь то любовь к партнеру или к жизни как таковой.
Другой причиной, психоаналитического толка, могла бы стать некоторая особенность личности «теряющего», которая не позволяет ему в полной мере наслаждаться тем, что он «имеет». Представим, что у человека в «нормальной» ситуации есть внутренние причины, бессознательные блоки против того, чтоб ощущать всю силу привязанности к другому ли человеку, к жизни ли в целом. Важным здесь является тот нюанс, что на глубинном уровне эта привязанность существует, она очень значима, но переживание и, тем более, проявление этой привязанности ограничено бессознательными страхами какого-либо рода. Примером такого страха может быть негативный опыт в близости с кем-то, при котором человек не боялся еще быть открыто включенным в эту близость, но в итоге отношения между людьми прекратились, причем болезненно. Незавершенное переживание этой ситуации может оставить свой отпечаток на всей дальнейшей жизни, приводя как раз к страху открытой включенности.
Но, повторим, все эти механизмы защиты могут действовать только в «нормальное» время, когда не существует сколь-нибудь серьезной угрозы для утраты безотчетно значимого объекта, или, по крайней мере, такая угроза не осознается человеком в достаточной степени. Тогда, стоит произойти кризисной ситуации, создающей или актуализирующей подобную угрозу, как более мощные механизмы привязанности, до того момента подавленные, актуализируются, а защитные механизмы, предохраняющие, по сути, от
возможной утраты, временно теряют смысл, потому что если утрата становится так близка, то более нет уже необходимости исподволь переживать страх этой утраты - вот она, совсем рядом. В такой ситуации человек вдруг становится способен ощутить полную силу любви к другому человеку или собственной жизни. Эта же логика будет объяснять то, как часто люди осознают «подлинную» ценность другого человека только после его ухода.
Примерно об этом же пишет экзистенциалист Камю в своей повести «Падение»: «Заметили вы, что только смерть пробуждает наши чувства? Как горячо мы любим друзей, которых отняла у нас смерть. Верно? Как мы восхищаемся нашими учителями, которые уже не могут говорить, ибо у них в рот набилась земля. Без тени принуждения мы их восхваляем, а может быть, они всю жизнь ждали от нас хвалебного слова. И знаете, почему мы всегда более справедливы и более великодушны к умершим? Причина очень проста. Мы не связаны обязательствами по отношению к ним. Они не стесняют нашей свободы.» .
Говоря о свободе, которую больше не стесняют умершие, Камю по сути очень близок к предлагаемому нами понятию бессознательных страхов, которые мешают нам чувствовать всю силу привязанности к людям. Ведь чем иным, кроме страха, можно объяснить это ощущение - что близкие лишают нас свободы? Ведь не в буквальном же смысле нам не позволяют делать или говорить что-то, мы сами выступаем для себя самыми строгими цензорами, стремясь не поставить под удар значимые для нас отношения.
В основе первой указанной нами причины может, по нашему мнению, лежать механизм, описанный во втором случае. Но мы не беремся утверждать, что во всех случаях то, что кажется жадным эгоизмом собственничества, будет на самом деле подавленным страхом потерять нечто значимое. По нашему мнению, в основе некоторых отношений между людьми не стоит искать вовсе никакой любви, а только лишь действие подобно-
го эгоизма, и мы позволяем себе экстраполировать эту возможность на любовь человека к жизни.
Можно аналогичным образом рассмотреть пример ситуации, в которой неизлечимый больной, которому врачи с уверенностью заявляют о небольшом сроке, оставшемуся ему на земле, начинает вдруг проявлять удивительную активность, до той поры для него не характерную: начинает путешествовать, писать стихи, говорить людям то, что давно собирался. Эта модель поведения, как нам кажется, так же вписывается в логику действия подавленных страхов. Человек во время своей «нормальной» жизни по каким-либо причинам не ощущал за собой права делать то, что ему хочется. Он существовал в некоторой давно устоявшейся колее, боясь выйти за ее пределы, боясь исследовать собственные желания и возможности, стараясь беречь себя для будущего или просто не решаясь открыто заявить себя миру. Человек в таком случае склонен жить не собственными желаниями, а тем, что он, по своим собственным ощущением, должен делать в жизни. По нашим личным наблюдениям, такая проблема, в той или иной мере, свойственна по крайней мере очень многим людям, если не всем вообще. И тогда вполне логичным кажется то, что когда человек понимает, что беречь себя уже незачем, начинает ощущать себя по сути уже утраченным для мира тех, кому он был должен жить свою предыдущую жизнь, он вдруг позволяет себе отдаться всему тому великолепию фантазии и энергии, которые до той поры были сокрыты в нем.
Другим аспектом феномена всплеска любви к жизни перед лицом смерти могут являться еще и просто психологические механизмы, отвечающие за восприятие в ситуациях сравнения. Сталкиваясь с угрозой потерять нечто мы бываем склонны преувеличивать его ценность. Когда мы болеем, нам кажется, что единственное, что нужно для счастья - это здоровье. Когда мы голодны - еда видится нам самым важным. Возможно, так же происходит и с ощущением близости конца жизни, когда мы начинаем ощущать
жизнь как нечто более ценное, чем мы привыкли думать.
Если принять такие объяснительные модели для описываемого феномена вдруг пробуждающейся перед лицом смерти страсти к жизни, то надо, по нашему мнению, признать эту страсть скорее уделом тех, кто не любит жизнь на самом деле, или, в лучшем случае, не умеет любить ее в отсутствие какой-либо угрозы.
Еще один важный, по нашему мнению, вопрос в этой связи: должны ли мы вслед за Хайдеггером говорить о том, что раскрытие своего бытия есть обязательная и безусловная цель для всякого человека? Следует ли нам безоговорочно принимать подобную телеологию духовного развития человека? У нас нет ответа на этот вопрос, есть лишь сомнения в однозначном «да».
Так, разные ценностные ориентации могут дать нам разные трактовки этой проблематики. Если мы принимаем за терминальную ценность осознанное и отрефлексиро-ванное бытие - то ответ самоочевиден. Но если, к примеру, мы решим принять высшей ценностью радость жизни, пусть и с некоторым налетом гедонизма? В таком случае, перед нами встает следующий вопрос: всегда ли человек, перейдя на более высокий модус бытия, станет получать от жизни больше удовольствия? Можем ли мы допустить, что нахождение в модусе Das Man может приносить человеку много простой радости, в то время как переход к осознанию бытия принесет постоянную фрустрацию сомнений и вечную пытку рефлексии? Если принять во внимание пресловутое «горе от ума», то ответ на этот вопрос становится, по нашему мнению, по крайней мере неоднозначным. А следовательно, можно поставить под сомнение и постулирование перехода к более высокому модусу бытия как безусловной всеобщей цели.
Так же, на наш взгляд, стоит обратить внимание на вопрос о том, насколько продолжительны могут быть изменения, происходящие в человеке в связи с «пограничным состоянием». Идеалистическая картина, ко-
торую бы хотели нарисовать философы-экзистенциалисты, наверняка подразумевала бы необратимость подобных изменений, предполагалось бы, что раз почувствовав вкус жизни в подлинном модусе бытия человек уже никогда не вернется назад. Так ли это на самом деле?
Во-первых, мы считаем, что если человек по какой-то причине раньше не пребывал в подлинном модусе, то эта причина совсем не обязательно будет полностью устранена в процессе переживания пограничной ситуации, хотя и отрицать такую возможность мы не станем.
Во-вторых, данные конкретных исследований (дать ссылку на тед) свидетельствуют о том, что значимость какого-либо события для мироощущения человека является действительно высокой на протяжении всего лишь нескольких месяцев. Вслед за Марком Твеном, не стремясь полностью полагаться на статистику, мы все же считаем наличие таких результатов исследований достаточной базой для того, чтобы хотя бы сделать предположение о том, что такое возможно. Таким образом, мы не беремся с уверенностью утверждать, что любые события оказывают только краткосрочное влияние на человека, но мы считаем, что мы вправе допускать, что это так.
Но если мы соединим эти два предположения, то это значило бы, что не исключено, что через какое-то время после произошедшего события человек имеет все шансы снова вернуться к своему Das Man. Как ни горько было бы для романтичных натур признать такой сценарий вероятным, мы все же считаем, что нахождение в подлинном модусе бытия - это постоянный процесс, требующий напряжения душевных сил человека, и влияние на его результат внешних событий хоть и может быть довольно заметным, все-таки не может считаться единственно возможным. А это снова приводит нас к мысли о том, что значимость переживаний по поводу смерти несколько преувеличена.
Мы не утверждаем, что духовное пробуждение перед лицом смерти невозможно.
Но одной из причин убежденности в этом может, по нашему мнению, являться просто последовательно воспроизводимый социальный сценарий подобного пробуждения. Своего рода самосбывающееся пророчество -люди вроде бы знают, что перед лицом смерти происходят мощные психологические процессы, а потому сами старательно идут к этой цели, когда чувствуют приближение кончины. Еще раз повторимся, что мы не ут-
верждаем это как единственную причину рассматриваемого явления, а только допускаем, что наряду с подлинным экзистенциальным переживанием возможно встретить и более прозаические феномены, которые как раз вполне вписывались бы в Хайдеггеров-ский Das Man. Das Man знают, что перед смертью положено обращаться к размыше-ниям о Боге и начинать вдруг особенно остро ощущать жизнь - и Das Man делают это.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Камю А. Избранное. М., Радуга, 1988.
2. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций. М.: Смысл, 1992.
3. Леонтьев Д. А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999.
4. Попогребский А. П. Влияние инфаркта миокарда на смысловую сферу человека // Психол. журн. 1998. № 5. Т. 19.
5. Тульчинский Г. Л. Танатология // Проективный философский словарь: новые термины и понятия / под ред. Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. СПб.: Алетейя, 2003.
6. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Класс, 1999.
7. Ясперс К. Философия. Гейдельберг. 1-е изд. 1931. Перевод по: 2-е изд. 1948. Цит. по: URL: http://elenakosilova.narod.ru/studia/j smord.htm
8. Claparede Ed. La conscience de la ressenmblance et la différence chez l"enfant // Archive de Psychologie, 1918, vol. XVII, N 65. Цит. по: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/615
10. URL: http: //lit. lib.ru/z/zima_a_m/text_0050.shtml
1. Kamyu A. Izbrannoye. M., Raduga, 1988.
2. Leont"yev D. A. Test smyslozhiznennykh oriyentatsiy. M.: Smysl, 1992.
3. Leont"yev D. A. Psikhologiya smysla. M.: Smysl, 1999.
4. Popogrebsky A. P. Vliyaniye infarkta miokarda na smyslovuyu sferu cheloveka // Psikhol. zhurn. 1998. N 5. T. 19.
5. Tul"chinsky G. L. Tanatologiya // Proektivny filosofskiy slovar": novye terminy i ponyatiya / pod red. G. L. Tul"chinskogo, M. N. Epshteyna. SPb.: Aletey"ya, 2003.
6. YalomI. Ekzistentsial"naya psikhoterapiya. M.: Klass, 1999.
7. Yaspers K. Filosofiya. Geydel"berg. 1-e izd. 1931. Perevod po: 2-e izd. 1948. Tsit. po: URL: http://elenakosilova.narod.ru/studia/jsmord.htm
8. Claparede Ed. La conscience de la ressenmblance et la difference chez l"enfant // Archive de Psychologie, 1918, vol. XVII, N 65. Tsit. po: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/615
9. URL: http://angstboy.livejournal.com/5580.html
10. URL: http://lit.lib.ru/z/zima_a_m/text_0050.shtml
Жизнь, смерть и смысл жизни человека
являются философскими проблемами, потому что никто не может дать объяснения этим словам и явлениям. Никто не может доказать что такое жизнь или смерть и для чего они существуют. Смерть - страшное и в то же время притягивающее слово, в ней так много загадки, которых нам не разгадать никогда. О ней можно думать всю жизнь, пытаясь ее понять и разгадать. А разгадать ее можно только при встрече с ней, а встретив смерть, мы теряем жизнь, поэтому о смерти до сих пор ничего не известно. Сколько жизней забирает смерть каждый час, или каждый день, месяц, год. В каких обличиях к нам приходит смерть? Смерть приходит к нам в виде старости, или в виде климатических явлений, в виде несчастных случаев, или в виде ножа в спину или в сердце. Смерть бывает разной, и в каком виде мы ее заслуживаем, определяет наша жизнь, как мы ее прожили, достойно или же низко.
1 261691
Фотогалерея: Жизнь, смерть и смысл жизни человека
Существо, с косой и в черном плаще с глубоким капюшоном, закрывающее лицо, приходящий за нашей душой. Кто он и чей посланник? Или это независимая инстанция, как суд, он определяет, куда отправить душу, в рай или в ад. Он является чистильщиком Земли, который делает выговоры человеку за его заслуги или за его ошибки. Он забирает души падших и возвышенных. Как нужно жить, чтобы смерть не забирала нас слишком рано?
С точки зрения медицины нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, и правильно питаться. А застрахованы ли мы от наследственных болезней, которые могут лишить нас жизни? С точки зрения религии, даруй жизнь другим, и жизнь будет дарована тебе, помоги ближнему, и Бог поможет тебе. Или же зачем бегать от смерти? Вдруг на той стороне реки, которая делит жизнь и смерть, подобия нас бегают от жизни, боясь, лишится смерти. Эти два неразделимых значения, не было бы смерти, не было бы жизни. Они взаимосвязаны.
А вдруг смерть это жизнь, только иная, так же как жизнь это смерть? А что если смерть в виде жизни на много проще и легче, чем наша жизнь. А мы цепляемся за наши жизни, как за последнюю каплю воды и стараемся хотя бы на час, но протянуть нашу жизнь и лишь бы не видеться со смертью. А что если наши грешные души просто наказаны и несут свое наказание в виде жизни, как зек в колонии строго режима. Ведь жизнь порой как наказание, в виде жизненных проблем. А что если наш мир и является адом, куда отправляются наказанные души.
Смерть это начало новой жизни, другой, которая предначертана нам, или которой мы лишились. Не зря появилась фраза «жизнь после смерти». А что если смерть - это дверь в новую жизнь. Мы боимся смерти, и страх нам свойственен, потому что мы всегда боимся неизвестного. Мы должны пережить смерть, что бы обрести вечную жизнь. Мы боимся смерти, потому что мы считаем, что настоящие мы это наше физическое обличие. Мы считаем, что умирая, мы теряем нашу индивидуальность и личность. Мы боимся потерять то, что копили всю жизнь непосильным трудом, мы боимся потерять наши материальные блага.
А тело это всего лишь пристанище для высшей материи, что называется душа. Тело со временем изнашивается, как туфли, стареет под воздействием времени и окружающей среды, а душа всегда остается такой, какая она есть, она несет свое наказание, возвращаясь на землю, вселяясь в новое тело, и так тысячу лет, из тела в тело, отбывает срок до ее окончания. А преждевременная смерть только усиливает наказание, увеличивая срок наказания, так же как увеличивают срок отбывания в колонии за побег из тюрьмы. А душа отбывшая свое наказание, больше не возвращается на Землю, вселяясь в тело. Она обретает полный покой.
Тысячелетиями люди пытаются разгадать смысл жизни и смерти, но все же никто не может дать толкований этим словам и явлениям. Есть много версий о смерти с точки зрения религии и науки, но ведь ничего не доказано.
А в чем состоит смысл жизни? Каждый человек, который способен мыслить не раз задумывался о смысле того, для чего он родился и живет. Мы все являемся частью высшего кругооборота, мы рождаемся, живем, умираем. Жить всегда намного сложнее, чем умирать говорят многие. А откуда известно, что умереть просто. Ведь это может сказать только умерший, а мертвые не говорят.
О жизни и смерти говорят веками, и столько же будут говорить, потому что это нечто высшее и недосягаемое для человека. О жизни и смерти говорят все, от самых известных до самых незнающих. Но кто бы и сколько бы ни говорил о жизни и смерти, все это останется всего лишь разговорами, и эти явления так и останутся самыми величайшими загадками вселенной.